Главная тема
Бюджет постчеловека
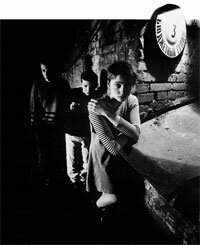 Ещё в начале 2000-х Александр Привалов диагностировал тяжкое заболевание, коим страдает наша экономическая система, — «бюджетобесие». «Бюджетобесие» — это когда целью бюджета, является сам бюджет. Казалось бы, за это время у нас появилась какая-никакая промышленная политика, «национальные проекты», если кто еще помнит. Помнится, была даже идея пройти нынешний кризис за счет увеличения государственного спроса на стратегических, так нам необходимых направлениях развития. Кстати, самая до тупости банальная антикризисная идея, о которой только немые не кричали, — строить во время кризиса даже не заводы — дороги!... На 12% у нас сокращены расходы на дорожное строительство.
Ещё в начале 2000-х Александр Привалов диагностировал тяжкое заболевание, коим страдает наша экономическая система, — «бюджетобесие». «Бюджетобесие» — это когда целью бюджета, является сам бюджет. Казалось бы, за это время у нас появилась какая-никакая промышленная политика, «национальные проекты», если кто еще помнит. Помнится, была даже идея пройти нынешний кризис за счет увеличения государственного спроса на стратегических, так нам необходимых направлениях развития. Кстати, самая до тупости банальная антикризисная идея, о которой только немые не кричали, — строить во время кризиса даже не заводы — дороги!... На 12% у нас сокращены расходы на дорожное строительство.
Фраза, оброненная нашим министром финансов, что рефинансирование нашей, нельзя сказать, чтобы чрезмерно развитой, банковской системы — это исключительно антикризисная мера, теперь подтверждена документально. После кризиса, в завершение которого свято верит наш Минфин, никто никого рефинансировать не собирается. При том что наша банковская система самостоятельно реальное экономическое развитие кредитовать не способна, в бюджете адекватных такой задаче расходов не предусматривается, остается предположить, что будущий экономический рост предполагается обеспечить дешевыми кредитами из-за рубежа, как это уже делалось до кризиса. То есть опять под видом восстановления похудевшей кубышки вывозить деньги за границу бесплатно, чтобы российские компании покупали их там задешево. Не говоря о том, что это уже один раз обошлось нам (то бишь тому же бюджету) несколько дороже, чем предполагалось; о том, что никакой структурной перестройки экономики в этом случае не получается гарантированно, вся эта схема построена на святой вере в быстрое восстановление этого самого «зарубежа» в тех же параметрах и с теми же повадками, какие у него были до кризиса.
Помимо собственно росписи доходов и расходов наш бюджетный прогноз опирается на некоторые параметры внешней конъюнктуры, от которой мы, как известно, зависим гораздо больше, чем нам хотелось. Во всяком случае на словах. Так вот, простой взгляд на те циферки курса доллара, цен на экспортное сырье, прогнозы роста мировой экономики отражают чисто религиозную (причем исключительно языческую) веру нашего Минфина в силу доллара и непоколебимость американской экономики. Без этой самозабвенной веры нынешний бюджет просто не мог бы родиться.
Наши авторы склонны подвергать сомнению тезис о социальной направленности представленного бюджета, приводя в качестве аргумента тотальное сокращение практически всех социальных расходов, кроме пенсионных. Эти аргументы не кажутся бесспорными: во первых, бюджет и правда не резиновый, и натужные усилия нашего руководства изыскать средства на социальные расходы в нем все же довольно заметны. При этом идея сосредоточиться в первую очередь на пенсиях выглядит вполне адекватно и с нравственной, и с чисто экономической точки зрения.
Во-первых, пенсионный долг так или иначе очевиден, и погасить его хоть в малой части перед кредитором до того момента, как он помрет, мысль достойная. А во-вторых, как фактор стимулирования спроса, пенсии действительно ресурс безошибочный. Именно нищета наших пенсионеров гарантирует потребление товаров первой необходимости большей частью отечественных.
Совершенно справедливо замечание о том, что фундаментальной причиной всех проблем является физически маленький ВВП России. Правда, при маленьком ВВП у нас доля бюджетных расходов от ВВП значительно ниже, чем в образцовых либеральных экономиках. А если вспомнить о тех же пенсиях, то не трудно заметить, что при душевом ВВП, вдвое меньшем, чем в старой Европе, наши пенсии меньше европейских отнюдь не вдвое. Это тяжкое наследие монетаристского реформаторства консервируется чисто бухгалтерской сметкой нашего Минфина. Занизить базу, занизить экспортные цены, завысить прогноз инфляции... И все «скрысятить» в ту самую кубышку. То есть единственным способом решения проблем, обозначенных и не обозначенных нашими авторами, является — вы будете смеяться — только рост ВВП. При этом представленный бюджет безусловно не является бюджетом роста. Это бюджет так называемой стабильности. Вообще повторюсь: вся антикризисная идеология наша состоит в том, чтобы переждать кризис, и, дождавшись улучшения внешней конъюнктуры, вот уж тогда... Опять же, излишне напоминать лишний раз, что наш прогноз так называемой внешней конъюнктуры — и среднесрочный, и долгосрочный, — мягко говоря, очень негативный. И прогноз этот основан на доказанном понимании фундаментальных механизмов нынешнего системного кризиса. Но что значат экономически корректные доказательства против несгибаемого идолопоклонства? В остальном же надо признать, что наш министр Кудрин является, наверное, самым адекватным и прагматичным политиком в России. Поскольку его бюджетная идеология демонстрирует глубочайшее неверие в способности нашего государства к эффективному проведению какой-либо экономической политики.
Пройдя испытание кризисом, наше «бюджетобесие» после нескольких неудачных курсов лечения перешло из острой стадии в хроническую. А наш министр финансов может считаться идеальным образцом «постчеловека», утратившего свои человеческие смыслы (см. статью Александра Дугина в этом же номере). Как пишет Дугин: «Экономический человек становится переменной от спекулятивных движений, колеблющихся в соответствии с трендами цен..., придатком все более автономных технических и финансовых процессов». Характеристика представляется исчерпывающей...
Бюджет не является целью экономики, а экономика не является целью человеческой жизни. Цели экономики и соответственно бюджетной политики задают люди. И выйти за пределы экономики нас все равно заставят, хотя бы в силу системности нынешнего кризиса. Собственно, цель, стоящая перед нашим государством, проста — нам нужно сохраниться как народ, как цивилизация и как популяция в катастрофическом мире. Собственно, только для этого государство и нужно. Представленный государственный бюджет достижения этой цели не гарантирует.





Комментарии