Экономика
Мыльный пузырь или черная дыра?
Реклама как пример иррациональности современной рыночной экономики
Даже с учетом кризисного падения объемы мирового рынка рекламы в 2009 году составят по разным оценкам от 430 до 450 млрд долл. — это намного больше, чем ВВП, например, таких стран, как Бельгия или Австрия.
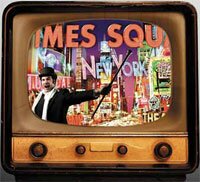 Мы не можем представить современный мир и современную экономику без рекламы. Большая часть рекламы производится коммерческими компаниями, и вопрос о ее нужности или ненужности, эффективности или неэффективности остается, казалось бы, вопросом частной бизнес-стратегии конкретной организации. Но сами объемы средств и трудозатрат на рекламу товаров и услуг, брендинг, нейминг, пиар и прочие инструменты воздействия на потребителей уже заставляют относиться к этой сфере серьезно — не первый десяток лет она является одним из краеугольных камней постиндустриальной экономики. И как сама эта экономика, вызывает немало вопросов.
Мы не можем представить современный мир и современную экономику без рекламы. Большая часть рекламы производится коммерческими компаниями, и вопрос о ее нужности или ненужности, эффективности или неэффективности остается, казалось бы, вопросом частной бизнес-стратегии конкретной организации. Но сами объемы средств и трудозатрат на рекламу товаров и услуг, брендинг, нейминг, пиар и прочие инструменты воздействия на потребителей уже заставляют относиться к этой сфере серьезно — не первый десяток лет она является одним из краеугольных камней постиндустриальной экономики. И как сама эта экономика, вызывает немало вопросов.
ПУЗЫРЬ В ПУЗЫРЕ
Говорить о рекламе как таковой сегодня сложно — с наступлением эры сетевых технологий мероприятия компаний по продвижению своих товаров и услуг, созданию и поддержке бренда, привлечению к себе внимания с помощью СМИ, интернет-коммуникаций, социальных программ, вирусного маркетинга сливаются в единое поле, в котором циркулируют в качестве активов такие малоосязаемые вещи, как креативность, имиджи, мечты и архетипы.
 Очевидно, что бренды стали составной частью всего окружающего нас информационного и культурного пейзажа, символами современной действительности. И все мысли, ощущения и эмоции, которые связаны с привычными названиями и логотипами, давно капитализированы.
Очевидно, что бренды стали составной частью всего окружающего нас информационного и культурного пейзажа, символами современной действительности. И все мысли, ощущения и эмоции, которые связаны с привычными названиями и логотипами, давно капитализированы.
Бренды оцениваются в астрономические суммы (таблица 1). При этом они составляют колоссальную часть всей стоимости компаний: по разным оценкам, бренд составляет более 70% стоимости Tiffany & Co, более половины стоимости компаний Coca-Сola и Google, около четверти стоимости Microsoft (см. график 1 и таблицу 2). Бренд — залог рыночной стоимости акций, и имиджевая составляющая биржевого успеха как ничто иное отражает постулат рефлексивности Джорджа Сороса о том, что поведение финансовых рынков вовсе не обусловлено некими объективными экономическими реалиями, а связано с тем, какие ожидания и мысли участники процесса связывают с этими реалиями — «мнения изменяют факты», «пристрастия могут повлиять на ход событий». Сладкая газированная вода отнюдь не вершина того, чего человечество достигло в изготовлении напитков. Но и 68 млрд долларов стоит не она сама, а те самые «мнения». Когда Уоррен Баффет планировал инвестиции в бизнес Coca-Сola, консультанты с Уолл-стрит высказали ему мнение о том, что это слишком дорогостоящее вложение, руководствуясь понятной биржевой логикой — стоит покупать нечто недорогое сегодня и перспективное завтра. На что гуру инвестирования ответил: «Если бы вы дали мне 100 млрд долларов и предложили перехватить мировое лидерство в сфере прохладительных напитков у Coca-Cola, я бы отдал их вам назад и сказал, что это невозможно».
 Это само по себе делает «брендированную экономику» потенциально способной порождать мыльные пузыри завышенных финансовых ожиданий. Во-первых, брендированные товары всегда можно продать дороже. Даже в таких секторах рынка, где потребитель традиционно озабочен вопросом высокого качества (например, аудио-видеотехника), он чаще всего связывает это качество с брендом, а не с конкретными техническими характеристиками товара, причем именно бренд «легитимизирует» в сознании необходимость принять высокую цену такого товара. В стоимости многих современных товаров рекламная, «имиджевая» составляющая может составлять существенную часть, а в области парфюмерии или статусных предметов роскоши — и до 90%.
Это само по себе делает «брендированную экономику» потенциально способной порождать мыльные пузыри завышенных финансовых ожиданий. Во-первых, брендированные товары всегда можно продать дороже. Даже в таких секторах рынка, где потребитель традиционно озабочен вопросом высокого качества (например, аудио-видеотехника), он чаще всего связывает это качество с брендом, а не с конкретными техническими характеристиками товара, причем именно бренд «легитимизирует» в сознании необходимость принять высокую цену такого товара. В стоимости многих современных товаров рекламная, «имиджевая» составляющая может составлять существенную часть, а в области парфюмерии или статусных предметов роскоши — и до 90%.
Можно сказать, что такая добавленная имиджевая стоимость товара никакое не раздувание пузыря: мол, такова современная экономика, это мир нематериальных, информационных активов. Однако имидж — вещь хрупкая. Недаром все антиглобалистские разоблачения мировых корпораций идут не столько в сторону доказательств несоответствия рекламных заявлений качеству, сколько по пути обнародования нелицеприятных фактов о самих корпорациях. Корпорация тратит миллиарды на то, чтобы логотип ее товара ассоциировался с миром, дружбой и прогрессом, а тут всплывают какие-нибудь подробности об использовании в ее бизнесе дешевого труда заключенных или рабских условиях работы детей на ее далеких азиатских фабриках. Конечно, такие детали не займут тех часов в телеэфире и квадратных метров на рекламных щитах, которые работают на положительный образ. Но любые скандалы, разоблачения и прочий негатив вполне способны влиять на рыночную стоимость компаний, значительную часть которой составляет имидж.
БРЕНД ВМЕСТО ЗАРПЛАТЫ
Во-вторых, если половину вашей рыночной стоимости определяет не тип и качество производимого продукта, а его образ в голове потребителя, то инвестировать в «базис» нет никакого смысла — реальное усовершенствование реальных вещей дело сложное, небыстрое и не всегда благодарное, а вот имиджестроительство — процесс, не имеющий пределов, зато способный дать быстрый и ощутимый результат. От этого, кстати говоря, серьезно страдает качество тех самых реальных вещей: несмотря на все уверения корпораций, что от переноса производств в регионы с дешевой рабсилой качество продукции не пострадало, любой потребитель на собственном опыте может это опровергнуть. Как в известном анекдоте про армянское радио: «Когда же будет лучше? Лучше уже было». Дешевые вещи — одноразовые вещи. Время их жизнеспособности так сократилось, что недавно даже британская палата лордов высказалась с критикой подобной модели потребления: дешевые «одноразовые» товары «загрязняют» общество в прямом смысле слова — выбрасывается так много вещей, что непонятно, как все это утилизировать. Не говоря уже о трате ресурсов, как природных, так и человеческих.
Главные мировые «имиджестроители» занимаются продвижением своего бренда, зачастую полностью отдав реальное производство, продажи и обслуживание в руки фабрик-партнеров и магазинов-партнеров по всему миру. Себе они оставляют создание смысла и философии бренда. Кроссовки известной компании — это не просто обувь для спорта. Это стремление к определенному образу жизни, система ценностей и идеалов. Кто их сшил, где и как, никому не важно. Логотип на пачке сигарет сегодня мало что скажет о сортах табака, зато представит владельца и его образ жизни не хуже визитной карточки.
В макроэкономическом смысле это означает, что реальное производство и продажи, затраты на все это и на занятых там людей полностью отделяются от «головной» структуры. Она платит колоссальные гонорары дизайнерам, консультантам, психологам, рекламным агентствам, специалистам по стратегическому планированию и прочим людям и организациям, создающим образ. Судьба тех, кто более приземленно создает и обслуживает товары — носители этого образа, куда более печальна. Они подлежат лишь бесконечной оптимизации. «Международным корпорациям нельзя тратить свои средства на машины, которые ломаются, на рабочих, которые неизбежно старятся и умирают. Им следует тратить эти ресурсы на виртуальный кирпич и цементный раствор, из которых строятся их бренды», — с сарказмом писала Наоми Кляйн в небезызвестной книге «NO LOGO». Работники разбросанных по странам третьего мира фабрик-подрядчиков формально не числятся в компании с громким именем, а всего лишь выполняют ее заказ, работая на местного работодателя, который не обязан ни улучшать условия их труда, ни повышать зарплату. Уже к концу 90-х годов, по данным ООН, в четырех из пяти развивающихся стран доля заработной платы в производственных расходах серьезно снижалась по сравнению с 70—80-ми годами. Западные заказчики продолжают быть заинтересованными в постоянном удешевлении расходов на реальное производство того материального субстрата, на котором живут их нематериальные дорогостоящие активы. Облагодетельствованных «долларом в день» нищих аборигенов впереди явно не ждет рост карьеры и потребления.
Да и на собственной территории лидеры по рекламным и брендостроительным расходам не особо тратятся на рядовой персонал. Известно, например, что уровень заработной платы в наиболее «брендовых» сетях быстрого питания ниже, чем у конкурентов. Фактически вместо денег работнику предлагается радоваться тому, что он включен в столь известную структуру. Впрочем, креативно-интеллектуальная элита, участвующая в создании и обслуживании брендов, напротив, чувствует себя куда лучше.
БЮДЖЕТЫ И ЦЕЛИ

Те, кто занимается созданием рекламы и продвижением брендов, — элита. Высокооплачиваемые, занятые творческим интересным трудом сливки современной экономики. Своим выигрышным положением обязанные, впрочем, не столько своим способностям, сколько неопределенности экономического эффекта от рекламы и прочих маркетинговых инструментов. Крупные корпорации знают, что реклама и поддержка своего бренда нужны. Но даже не потому, что это дает какой-то прямой финансовый эффект, а потому, что потребитель не должен чувствовать себя покинутым. Если он купил автомобиль определенной марки, то, видя каждый день ее логотип на рекламном щите по дороге на работу, он не становится ближе к покупке еще одного. Он обретает уверенность в правильном выборе, сделанном вчера. То есть надо, чтобы не забывали. «Оцифровать» это «незабывание» трудно — как результат появляются самые необычные рекламные проекты и продукты.
Компании выделяют бюджеты на рекламу, а уж «осваивают» их дальше по цепочке не хуже, чем пресловутые «ничьи» госсредства. Неоцениваемое хорошо тем, что цену на него можно выставить любую. В результате на рекламу и мероприятия по продвижению брендов и товаров тратятся огромные деньги, за счет которых живет целая небедная индустрия (таблица 3), к которой у самих компаний-заказчиков тоже есть немало претензий. В соответствии с некоторыми радикальными оценками, до 90% рекламы составляет мыльный пузырь и является совершенно бесполезной, то есть никак не влияющей на реальные продажи и доходы компаний. Рекламодатели грамотно «разведены» на рекламные бюджеты, организован некий «креатив», а финансовые потоки ушли всем участвующим интересантам. Прагматичные компании периодически пытаются высказаться на тему, что попасть в конкурсную программу «Каннских львов», конечно, очень здорово, но нам бы вот как-то прибыль увеличить надо. На что немедленно получат обвинение в дремучести и отсталости.
Рекламщики в данном случае выступают вроде бы поборниками творческого подхода к делу. Мол, привнесем креатив и свежий воздух в сухую прагматику бизнеса. Но, глядя на это, возникает вопрос: может быть, мы как раз видим тотальное несовпадение целей? Когда представители рекламной индустрии пытаются реализовать свои творческие амбиции за счет бизнес-клиентуры, может быть, они просто разменивают свой талант? В результате и сами не получают свободного творчества, и клиенты не получают прагматического результата, который был бы им нужен. Получается, что «невидимая рука рынка» не так уж редко уводит деньги компаний в черную дыру. А пузырь этого симулятивного рынка только растет.
Или правильнее сказать, рос. Компании готовы были тратиться на неопределенно окупаемые мероприятия до кризиса. Но экономический спад урезал затраты корпораций на маркетинг — так, уже в 2008 году, по данным MarketingSherpa, 60% крупных и 29% средних компаний США и Канады сократили расходы на маркетинг. В 2009 году, по данным Nielsen, наиболее резкое падение рекламного рынка было зафиксировано в Северной Америке — на 15,9 % за полугодие. В Европе расходы на рекламу сократились на 9,1%, а в Азии даже выросли на 2,2% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В России же расходы на рекламу сократились на треть по сравнению с 2008 годом.
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Все либеральные экономические теории утверждают, во-первых, что рыночная экономика ведет к рациональному распределению ресурсов, то есть между различными видами использования ресурсов рынок выбирает тот, который наиболее оптимален и эффективен с точки зрения удовлетворения нужд потребителей. Во-вторых, что свободная рыночная экономика ведет к справедливому вознаграждению за выполняемую экономическую деятельность. То есть паразитические и бесполезные виды деятельности в такой экономике невозможны, а наиболее высоко оцениваются самые нужные обществу виды деятельности. Именно в этих тезисах заключен весь пафос выражения о «невидимой руке рынка».
Тем не менее даже у самих компаний есть большие сомнения в эффективности своих трат на рекламу. Цифры сокращения рекламных бюджетов вместе со сменой стратегии — а ситуация заставляет сегодня отказываться от традиционных форм рекламы в СМИ, переходя к другим методам более фокусной работы с потребителем, в том числе и с помощью сетевых технологий, — показывают, что очередной пересмотр своих взглядов на эту эффективность идет прямо у нас на глазах. Понятны причины сокращения расходов на телерекламу — наименее таргетированную и при этом дорогостоящую. Это стрельба из пушки по воробьям. Но ведь есть и другие примеры явно не самых рациональных вложений. Тонны и тонны рекламных проспектов бесконечно раздаются гостям на различных конференциях, лежат возле стоек ресепшн в гостиницах и на вокзалах, раскладываются по почтовым ящикам, для того чтобы прямым ходом попасть в другой ящик — мусорный. О каком «рациональном распределении ресурсов» может здесь идти речь?! Причем в этих проспектах нет чаще всего никакой полезной информации, способной сподвигнуть кого-то на контакт с рекламодателем или его товарами и услугами. Зато много пафосных заявок о повышении эффективности, результативности, индивидуальном подходе к нуждам клиентов — неважно, предлагаются ли услуги финансового консалтинга или новые цвета губной помады. О какой «оптимальности и эффективности» тут можно говорить?! Известный своими нестандартными взглядами на маркетинг бизнес-гуру Клаус Кобьелл называет подобный метод подачи информации «кладбищем объявлений».
А ведь помимо реальной финансовой отдачи для самих рекламодателей есть и более общий вопрос об объемах подобных сомнительных рекламных расходов. Например, сельскому хозяйству развивающихся стран для помощи фермерам необходимы инвестиции в объеме 44 млрд долл. в год, чтобы эти страны наконец могли сами себя прокормить. «Богатые» государства не могут договориться между собой о выделении этой суммы (весьма оперативно изыскав триллионы в 2008—2009 гг. для поддержки финансового сектора). Это десятая часть объемов мирового рекламного рынка. Вряд ли кто-то заявит о 100%-ной отдаче каждого затраченного на рекламу доллара. Не нужно быть аналитиком, чтоб смело утверждать — гораздо более существенная часть этих расходов имеет сомнительную полезность для рекламодателей. Так, в одной части экономического пейзажа деньги рекой утекают в никуда, тогда как в другой — тщетно пытаются найти хоть какие-то капли для жизненно необходимого. Глупо винить в этом конкретных представителей отрасли и их заказчиков. Но если всю мировую экономику в связи с кризисом справедливо называют спекулятивной, то ее рекламно-маркетинговый сегмент — это спекуляция в квадрате.
Преобразившись за полвека из понятного обслуживающего продажи механизма в чуть ли не главный генератор стоимости для бизнеса, и идеалов, и ценностей — для людей, эта область теперь весьма слабо связана с реальной экономикой. Понятно, что дороги назад не существует, и нынешние вирусные видеоролики и акции «2 по цене 1 + подарок» не превратятся в скромную информацию о том, что с сиропом — за 3 копейки, а без сиропа — 1. Но оздоровление всего экономического пейзажа видится в первую очередь в избавлении от фантомов ложной информации, в области создания которой сегодняшняя реклама и маркетинг, к сожалению, стоят в первых рядах. Кроме того, в посткризисной экономике компании вряд ли уже смогут позволить себе роскошь расходов с неопределенной для себя полезностью.




Комментарии
было бы неплохо еще сильнее выделить что в стоимости вещей составляющая рекламы перевешивает производственную, что значительно увеличивает цену для покупателей(а значит касается каждого). плюс то что реклама зачастую навязывает(используя психологические методы давления) вещи, без которых вполне можно было бы обойтись, но чтобы купить их люди должны работать больше, брать кредиты итд. плюс когда навязывают определенный имидж, люди начинают больше расстраиваться если ему не соответствуют. ну и пример из книжки потреблятство - промывание мозгов с детского возраста.