Искусство
Один раз отрежь
О романе Даниэля Кельмана «Измеряя мир», посвященном счастливой эпохе, когда люди верили в собственный разум
Человек, имени которого мы не знаем, всю жизнь прожил в деревне Калабосо, в Южной Америке. Он никогда не выезжал даже в ближайшие города. Но у него была лаборатория: склянки и колбы, всякие девайсы для измерения силы землетрясения и влажности воздуха. Он сконструировал их сам.
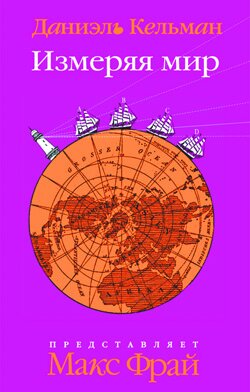 ОГНЕННЫЙ ВОЗДУХ
ОГНЕННЫЙ ВОЗДУХ
Особо он гордился одним механизмом: дюжины колесиков, вращающихся против друг друга, вырабатывали такое напряжение, что воздух искрил и колыхался и волосы у людей рядом сами собой вставали дыбом.
И вот старику (человек был уже стар) повезло показать свой прибор ученым с другой стороны Земли, путешественнику Гумбольдту и его ассистенту Бонплану. «Я сам открыл эту загадочную силу», — сказал старик.
Гумбольдт прокашлялся, Бонплан врезал ему локтем под бок, но Гумбольдт все-таки сообщил старику, что эта сила давно открыта и называется гальванизмом. У них даже есть при себе приборчик, лейденская банка, которая делает то же самое гораздо шибче. Старик молча почесал подбородок. Потом сказал, что не мог всего этого знать. Здесь он в такой дали от всего на свете. Конечно, согласился Гумбольдт.
Путешественники хотели дать старику денег, но он не взял. Сколько они ни оборачивались, они видели его стоявшим перед своим домом: сгорбившись, он смотрел им вслед.
Изо всех фигур и фигурок, обильно населяющих роман Даниэля Кельмана, мне больше других запомнился этот старик.
Не жаль Абрахама Вернера, чье популярное учение «нептунизм» (о том, что ядро Земли — твердое) как раз Гумбольдт разбил в пух и прах.
Не жаль самого Гумбольдта, который долгие годы гордился, что залез в Южной Америке на высочайшую гору в мире, а потом выяснилось, что в других частях света есть горы ого-го насколько выше.
А вот этого старика… Нет, я не прав. Его тоже не жалко.
Жаль солдата, который двенадцать лет руководит в миссии в дебрях Амазонки пятнадцатью индейскими семьями (при том что миссионера никакого при нем нет, весь христианский мир представляет этот солдат) и просит путников подсказать «кому-нибудь», чтобы прислал смену.
А старика-изобретателя не жалко. Кто я такой, чтобы жалеть такого человека. Он сам подручными железячками и без малейшего Интернета заставил воздух искрить и колыхаться.
ПАШТЕТ ИЗ ТЕРМИТОВ
Молодой инспектор горного дела Александр фон Гумбольдт работал очень хорошо. Едва ступив на стезю асессора горного департамента, он зарекомендовал себя самым надежным контролером на шахтах и торфяных разработках. Но ему было мало контролировать торф. Вот попала ему в руки книга Гальвани об электричестве и лягушках. Отрезанные лапки несчастных созданий дергались, как живые, когда к ним присоединяли пластинки разных металлов. Но мало ли что там с лягушками. Гумбольдт решил проверить сам, приказал слуге наклеить на спину (себе, не слуге) два больших пластыря для кровопускания, так были получены два больших волдыря, которые потом были взрезаны, а потом на раны последовательно укладывались цинк, серебро, потом и лягушки пошли в ход, лягушек тоже на раны, а за судорогами их Гумбольдт следил в зеркало. Слуга, короче, уволился, а Гумбольдт доказал что-то важное насчет проводимости живых тканей.
Не объясню, что именно. Завораживает в этой книжке, полной описаний забубенных подвигов во имя Науки, эмоция исследователя, а не смысл его открытий. Готовясь к своим знаменитым экспедициям, «он так научился раскладывать и собирать инструменты, что мог делать это вслепую, стоя на одной ноге под дождем или посреди коровьего стада, над которым кружилась туча мух».
Учения пошли впрок. В бою (то есть в путешествии по Новой Испании, Новой Андалусии, Новой Гранаде, Новой Барселоне и по Соединенным немножечко Штатам) Гумбольдту приходилось разрезать моллюсков, принесших на судно лихорадку, чтобы успеть открыть, пока в сознании, что именно в них способно приносить лихорадку, ощупывать по очереди всех женщин дикого племени с целью пересчитать вшей в волосах всякой из них, спускаться на веревках в колодцы и кратеры вулканов, забираться в глубь пещер на такие расстояния, где уже являются призраки, стоять на вершине горы, не шевелясь, полчаса, с секстантом и лицом, облепленным двумя слоями пчел, пороть себя электрическим угрем, сталкиваться в джунглях один на один с ягуаром, тонуть вместе с лодкой в реке, кишащей крокодилами, запирать других крокодилов со сворой собак, чтобы поглядеть, что выйдет, плыть и идти сутками без воды и еды, ужинать чем-то, анонсированным как обезьяна, но скорее всего не являвшимся обезьяной (в другом месте еще угощали паштетом из термитов, это как раз вкусно, наверное), облизывать палец, обмакнутый в кураре, переходить пропасть по «мосту», который задним числом оказывался всего лишь наросшей ледяной коркой, даже и не слишком огромной сосулькой…
Или вот славно: «чтобы шторм на море не пропал для науки даром, Гумбольдт приказал привязать себя к носу корабля на высоте пяти метров над морской поверхностью, где он измерял высоту волн… Он провисел на носу с рассвета до ночи с окуляром секстанта перед глазами…»
Нормально, мне кажется.
«Он обследовал все, что не имело ног или не испытывало страха, чтобы убежать от него. Он описал цвет неба, температуру молний и толщину ночного инея, он изучил птичий помет…»
Да, нормально.
Тридцать четыре тома документации путешествия, таблицы, карты, рисунки, миллиарды цифр. Все, кстати, за свой счет: и экспедиция, и издание.
ЗВЕЗДОЧЕТ ПОНЕВОЛЕ
Естествоиспытатель Гумбольдт (университет в Берлине, уточню на всякий случай, основал не он, а его старший брат-лингвист) делит книжку с математиком Карлом Фридрихом Гауссом. Этот за свой счет ничего предпринимать не мог, ибо был сыном бедного садовника, высшая мудрость которого заключалась во фразе «Немец тот, кто никогда не сидит скособочась». Тут поменьше, пожалуйста, иронии: разве плохо унаследовать от отца умение, во-первых, не сидеть без дела, а во-вторых, не «кособочиться»? По существу, самое важное унаследовал.
Гаусс выбран в пару к Гумбольдту по контрасту: один прыгал, как блоха, по вулканам, другой сидел дома, записывал циферки в столбик и наискосок, от невесты в брачную ночь отскочил на несколько минут к столу занести важную формулу. Двадцати четырех лет от роду выпустил в свет Disquisitiones Arithmeticae, «арифметические исследования», которые много чего напереворачивали в науке о циферках.
Совсем всегда сидеть дома не получается, конечно, даже у самого заядлого математика. Подростком Гаусс поднялся в воздух на тогдашней сенсации, воздушном шаре, увидел, как пространство сужается вдали, и понял, что параллельные линии могут пересекаться. Не стал этого никому говорить, все равно не поверили бы; зато потом, когда то же самое придумали в России, возмущался, что не верят, что он понял раньше.
На шаре взлететь, конечно, это не бараном чихнуть: один маркиз, скажем, полчаса полетал над Парижем, а потом утверждал, что в воздухе снаряд окружали «летучие светящиеся существа с девичьими грудями и птичьими клювами». Так что Гаусс тоже большой молодец по части отваги. Он потом с королем не стал встречаться… надоело ждать в большой толпе в парадном зале. Но больше сидел дома и любил в старости вспоминать, что именно ради него Наполеон в свое время отказался от обстрела Геттингена.
Герои так подобраны, чтобы читатель мог сопереживать то одному, то другому способу творческого поведения. Кому-то легче представить себя висящим, аки Гумбольдт, на носу корабля, кому-то — чертящим в ночи равносторонний семнадцатиугольник (до сих пор человечеству давались лишь пятнадцатиугольники!) с ногой, засунутой в ночной горшок. Не для какой-то хитрой магической подпитки, а из рассеянности и ради образной детали.
Мне не близки ни нос корабля, ни горшок с семнадцатиугольником; пуще всего я сопереживал Гауссу, когда он поперся из Ганновера на дилижансе в Кенигсберг глянуть на Канта. Дилижанс идет две недели. «Между дурно пахнущими людьми, и одна баба ела сырые яйца прямо со скорлупой». Это решительно непонятно — две недели дрынь-дрынь в шарабане. Еще Пушкин в дилижансе из Москвы в СПб неделю добирался… вот что сложно в голове уложить, а не лейденскую банку. Прогресс все же есть, наверное.
И еще прелестная подробность: математика кормила плохо, и Гауссу приходилось зарабатывать на жизнь астрономией. Он не то что ее презирал, но считал наукой сильно пониже рангом. Представьте художника, который вместо шедевра пейзажной лирики вынужден рисовать предвыборный плакат. Композитора представьте, который вместо сокровенной оперы строчит корпоративный гимн для салона сотовой связи. Представьте, не знаю, Лужкова Ю. М., который, вместо того чтобы резвиться на пасеке с любимой пчелой, должен цепляться за кресло градоначальника, кланяться петрушкой в Кремле, строчить пасквиль на Е. Т. Гайдара, ломать из себя Деда Мороза на празднике… Для меня оказалось большой новостью, что великий математик занимался астрономией вот эдак несколько сквозь зубы, через губу…
ДАННЫЕ УТОНУЛИ
Название книжки соответствует содержанию: герои все время что-либо измеряют. «Холм, о котором неизвестно, как он высок, оскорбляет разум и лишает его спокойствия», — это Гумбольдт, но и Гаусс тоже бывал недоволен, если какое-нибудь просто число было познано недостаточно крепко.
В романе есть прелестная, немножко на сон похожая сцена: «Гумбольдт был среди тех, кто собрался под моросящим дождем на истоптанном газоне близ Парижа, дабы измерить последний отрезок долготы, соединявшей столицу с Северным полюсом. По завершении сего действа все сняли шляпы и пожали друг другу руки: одна десятимиллионная часть расстояния, выполненная в металле, станет отныне эталоном всех будущих измерений длины». Это, как вы догадались, день рождения метра.
Хорошие книги обращают читателя на себя… вот вам нравятся, когда что-то меряют? На церемонии учреждения метра я, конечно, хотел бы побывать: Париж, моросящий дождь, историческая минута… Но в целом переполняться чувствами, «когда что-нибудь измеряется», мне кажется странным. Я, допустим, нетвердо знаю свой рост и дни рождения даже ближайших родственников. Это нехорошо, согласен, однако же и пафос неуклонной точности кажется мне подозрительным.
Ясно ведь, что у таких отчаянных обмерщиков польза человечеству в лучшем случае на втором месте в перечне мотиваций. На первом — само желание померить. Засунуть нос с нанесенными на него зарубками в дюймах или сантиметрах в лисью нору. Есть тут какая-то ущербность, вам не кажется? Будто бы четкое действие, точное измерение — это самодостаточная удача. Что-то вроде оргазма. Его достижение — цель сама по себе… без оглядок по сторонам. Замерил высоту волны, и жизнь вроде как состоялась.
Да, измерение, хочется верить, можно куда-нибудь «практически приложить». Но ведь исследователь прется не от этого.
Со стороны его усилия хочется описывать в меланхоличном поэтическом ключе: да, высота холма известна, пульс енота тоже, а счастья нет.
Пока герои лазали по джунглям, я все думал, а как же они решают проблему сохранения данных. Вот в набоковском «Даре» старший Годунов-Чердынцев привез своему другу-биологу подарок из экспедиции: целую лесную полянку с какой-то там высоты, целиком растительный покров… Вопрос: как вез?
То, что Гумбольдт мог месяц маршировать через джунгли, не удивляет. Ну мужество, упорство, тренировки, задор. Но ведь он постоянно собирал что-то в склянки и мешки… «Из Гаваны они отправили два корабля с препарированным материалом, камнями, гербариями, записями». Ага, понятно. А дальше вот что: один из кораблей утонул. И на нем двадцать тонн и тысяча дней и ночей работы утонули.
Нормально.
Зато жизни нашим героям было отмерено по тогдашним понятиям даже и много. Гаусс 1777—1855, Гумбольдт 1769—1859. И цифры такие… симметричненькие. Думаю, это главная награда за любовь к измерениям.
ФОРМА ТРУСОСТИ
Многое ведь сбылось. Действительно все померили. Землетрясения не всегда, но иногда предсказываем. Пушкин маялся между столицами неделю, Анна Каренина ехала по железке меньше суток, а теперь построили поезд «Сапсан», который доносит за три с половиной часа, почти уже как на крыльях любви.
Орбиты планет не только вычислять научились — сами запускаем туда разноплеменных гагариных.
В сцене, когда старый Гаусс едет из Ганновера в Берлин к старому Гумбольдту, есть сцена с жандармами и паспортами (нельзя без паспорта покинуть землю Ганновера!), и крики проходного персонажа, что «Германия будет свободной, и ее славные граждане станут путешествовать без всяких там бумажек». На перегоне Ганновер — Берлин и даже на несколько большем пространстве вокруг нынче действительно можно «без всяких там бумажек».
Гаусс хочет в какой-то момент переехать из Хельмштадта в Геттинген, но жена ему сообщает, что Геттинген сейчас принадлежит Франции, ибо идет война и его захватили. Гаусс удивлен, но война его мало смущает, ему надо считать цифры, а кому когда какой город временно принадлежал, в будущем будет неважно. Жена говорит: «Прятаться за будущим — это форма трусости».
Кто был прав в том споре, не знаю, но важно, что тогда было будущее.
Таскался по страницам романа мсье Даггер с дурацким ящичком, скулил, что никак не может зафиксировать толком йодид серебра. Но было понятно, что никуда не денется, зафиксирует.
Берлин хорошо описан. «Тысячи домишек без единого центра и плана, стихийное поселение в самой заболоченной местности Европы. Только что приступили к возведению собора, нескольких дворцов, музея для находок гумбольдтовой экспедиции». Это описание веет будущим, про которое мы знаем, что оно состоялось.
Древний канал между Ориноко и Амазонкой имело смысл заново открыть, ибо кто-нибудь его точно использует — не через сто лет, так через двести…
Я завидую этому «чистому разуму», уверенному, что надо отобрать у природы тайны и все наладится.
В одной из последних глав автор отправляет Гумбольдта в путешествие по России, очень смешно. Собрать цветок в гербарий трудно, когда тебя охраняют даже в чаще до сотни конных. «Он многие годы провел в самых диких местах безо всякого сопровождения! — Здесь не дикие места, возразил начальник заставы, здесь Россия». Так иронично, совсем легонько автор окунает героя в иррациональное. Но без нажима. В другом месте многозначительно прозвучит «Свобода придет, несмотря ни на что. Неизбежно, как ночной вор». Но тоже без нажима. В целом мы в ясном мире: великие мужи как раз меняют его картину, но меняют на прочную, на вечную.
А мы с вами уже в будущем. Будет ли следующее будущее, непонятно. Но понятно, что без тайн никуда, что рациональность — точно не сказать, с чем именно, но совершенно очевидно не справилась.
Вот у одного из племен Гумбольдт похитил из пещеры три трупа… еле ноги унес. Читатель вроде на стороне ученого, он же похитил эти трупы для грядущего процветания человечества. О том, что он мог там в племени нарушить тонкую экологию между мирами живых и мертвых, читатель не задумывается.
Беда в том, что теперь у нас, похоже, нарушена именно этого рода экология.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ВАРВАРЫ
У науки нынче статус, как и у всего остального… такой что ли неуверенный. Не хуже политики, экономики или искусства потонула она в симулякрах. Вот недавно прокатился скандал, что свиной грипп пуще иных, и с сильными преувеличениями пиарили фармацевтические компании, чтобы спрос, значит, увеличить на антисвинин. Такая операция, увы, вполне укладывается в логику действующего мира.
Или история с глобальным потеплением, которое сейчас вдруг кинулись разоблачать. С самых разных сторон и на разных языках стали поступать сведения, что придумала глобальное потепление кучка умелых грантососов, чтобы получить на борьбу с ним Самый Большой Грант. Чувствуешь себя идиотом… все равно ведь я не могу проверить ученых. С одной стороны, в заговор ради гранта поверить легко. С другой — а вдруг есть потепление. Гранта не дадим и быстро потонем в растаявших льдах. Всюду клин.
Кое о чем, однако, может высказаться определенно и человек без суперспециального образования. Вот пытливые итальянские исследователи хотят разрыть могилу Леонардо да Винчи, чтобы по черепу, значит, восстановить его физиономию и таким путем подтвердить (или опровергнуть) гипотезу о том, что Джоконда — это его автопортрет. И уже подали какие-то там бумаги насчет эксгумации французским властям (Леонардо лежит во Франции).
Так вот, если тот старик из Калабосо — ученый, то бравые эксгуматоры этого звания не заслуживают. И если Гумбольдт таскал кости, чтобы открыть что-то про эволюцию и болезни, то эксгуматорам интересна не эволюция, а сюжет в телевизоре. То есть опять же никакие не ученые. Или те самые ученые, коих в народе метко прозвали «в говне моченые».
Магометанского любомудра, сбренди он и заяви сейчас, что хочет взрыть в исследовательских целях могилу, предположим, Авиценны или Ахмада Кадырова, мгновенно подвергли бы заслуженной декапитации. Христиане на сей счет посдержаннее, но людям, которые из праздного любопытства хотят поворошить чужую могилу, следовало бы, конечно, как следует настучать по шее.
У диких племен костей натаскали, и неизвестно, какая и где у нас по сему поводу теперь высится карма. Своих-то уж точно не следует трогать.
ДОСЬЕ
Даниэль Кельман (1975) — самый знаменитый молодой австрийский писатель и один из лидеров немецкоязычной «новой волны». Автор шести романов (пять из них вышло по-русски) и сборника рассказов, лауреат премий «Кандид» (2005), имени Генриха фон Клейста (2006) и Томаса Манна (2008). Исследователи называют Кельмана учеником Владимира Набокова. «Измеряя мир» — мировой бестселлер. Возможно, что через несколько лет Кельман будет популярен в России, как Коэльо или Януш Вишневский, но пока он издается у нас скромными тиражами, при поддержке немецких культурных институций да еще и в серии «Макс Фрай представляет».




Комментарии