Искусство
Ярость
О книге Вадима Гаевского и Павла Гершензона «Разговоры о русском балете»
Балетные артисты, утверждается в отчетной книге, никогда не пахнут потом. Входя в репетиционный зал, они будто бы буквально обливаются дезодорантами. «Это своего рода неврастения, паническая боязнь дискомфорта в физическом контакте с партнером».
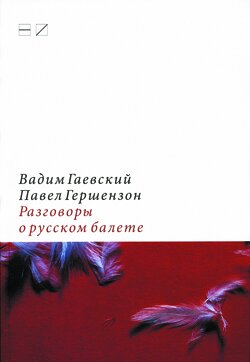 В гробу видал
В гробу видал
Обывательское сознание, носителем которого по отношению к таинственному искусству балета является автор этой статьи, склонно выделять из специфических книг такие вот факты: телесные, фактурные… Которые можно сравнить со своим посюсторонним опытом.
То, что в Большом театре сцена больше, чем в Мариинском, я и сам замечал, да на то он, собственно, и Большой. Но вот что у мариинских «подмостков» отвратительные пропорции («несмываемое родимое пятно театра-цирка») — не знал.
В перестройку зрительница заявилась на спектакль в Большой с плакатом «Долой Григоровича!», и балетный по фамилии Мухаммедов накинулся на нее, прямо в партере разгорелась драка: хороший повод для ностальгических воспоминаний.
Мариинка полна привидений, так расскажите же подробнее, но тема уже свернута… Постоянно пытаю коренных петербуржцев о привидениях в театрах, в Эрмитаже, в Публичной библиотеке: вроде заикнутся, но ту же осекаются, уводят разговор в сторону.
В Мариинке восстановлена оригинальная четырехактная «Баядерка» Мариуса Петипа, но по факту идет (разговор от 2005 года) кастрированный вариант, потому что Ульяна Лопаткина не хочет (читай: не может) плясать длинную версию: да, что-то такое «все» в Петербурге и подозревали.
Вот из области психологии: Гершезон, служивший на Театральной площади, поместил в буклет балетного фестиваля «Мариинский» никогда не публиковавшуюся посмертную фотографию Чайковского. Разразилась буря: «Он всех нас в гробу видал!» Ситуация знакомая. Никакого даже «жеста» не совершаешь, ведешь рядовую культурную деятельность, печатаешь неизвестную фотографию, наивно исходя из того, что это «интересно», и вдруг обнаруживается целая группа оскорбленных граждан.
Книга Гаевского-Гершензона получила статус «очень скандальной» еще до выхода, на стадии публикации фрагментов. В Академии русского балета имени Вагановой состоялось даже собрание, на котором авторов заклеймили как зловредных инсинуаторов. Заклеймили несправедливо, но все же замечу, что некоторые особенности книги дают простор для размашистых интерпретаций.
Ловкость ног
Диалог не назовешь оригинальной формой, но тот, что вошел в книгу, продолжался 13 лет: по каким-то вопросам авторы просто радикально поменяли точку зрения. Прихотливость форме придают возведенные в принцип камбэки: после живой беседы может следовать дополнение, сделанное одним из авторов (или обоими) через десятилетие. Чтобы оценить оттенки позиций, их развитие, красоту перипетий дискуссии, нужно читать не просто внимательно — желательно неоднократно.
Усилие оправданное: авторы превосходно знают свой предмет изнутри и снаружи и говорят о нем с нешуточной страстью, переходящей в ярость.
Старый мудрый Гаевский сдержаннее, мысль его многоплановее: он говорит одновременно о технологии, истории, мифологии и психологии балета, который в каждую секунду производится при всей своей надмирности-неотмирности конкретными людьми с конкретными комплексами. Очень интересен в репликах Гаевского мотив угрозы и мании преследования в творчестве Юрия Григоровича, в результате каковой мании он мог всерьез размышлять о природе зла — безотносительно к политической ситуации («даже гармоничный, светлый, радостный «Щелкунчик» поставлен на эту тему»). Замечательно (не скажу, справедливо ли) описан комплекс Плисецкой: она, по Гаевскому, хотела свободы не то чтобы разрешенной, но такой свободы, которой бы аплодировала высшая власть. Уникальная психологическая формула, способная, наверное, обрести плоть и кровь только в балете. В «ненаучных» на первый взгляд, но очень тонких терминах описана функция Алексея Ратманского в Большом театре: он не был обременен историческими задачами создать советский, антисоветский, имперский или перестроечный балет, а мог строить просто прелестный балет.
Гершензон горячее и прямолинейнее. Он слишком заражен борьбой с литературоцентризмом, пышет идеей «актуальности», что было естественно для середины девяностых. Но сегодня сочувственно цитировать идею, что после Дюшана глупо говорить о живописном качестве, это именно что «неактуально»: идеи такие сгнили. Кроме того, Гершензон местами (и многими!) как-то преувеличенно неизысканно груб. «Дурочка Анна Павлова», «балеринский террариум», «мыслители нижних конечностей», «точная метафора русской балетной труппы — крепостные холопы», «русский балет — прибежище пошляков, маргиналов и городских сумасшедших» — после такой концентрации хамства стоит с пониманием отнестись к тому, что на собрании в Академии балета тебя назовут безродным провокатором.
Важно, впрочем, что преданность Гершензона «актуальности» на деле оборачивается пропагандой конкретных балетмейстеров Джорджа Баланчина и Уильяма Форсайта, а именно идеи, что танцевать нужно лучше и чаще. В смысле не бояться нагрузок, сложного «текста» и вмещать в единицу времени больше, чем принято в текущей отечественной практике, «хореографической информации». Ловкость ног важнее «концепта». С этим конкретным сообщением не согласиться трудно, и развивает свою мысль Гершензон изобретательно и последовательно, а перегибы можно списать на дискуссионный жанр.
Чистая перемена
Несмотря на диаметральность темпераментов и посылок, Гаевский и Гершензон предъявляют общую схему балетной истории. Примерно так: и Мариинский театр, и Большой, лишенные живого контакта с мировым процессом (где важную роль играли притом свои, начиная с петербуржца Баланчина), по-разному строили отношение с русским классическим наследием. В Ленинграде-Петербурге бесконечно перелицовывали наследие Петипа, пока не осознали это наследие нефтью, финифтью, гжелью: в позднесоветское время Kirov balet from Mariinka сознательно позиционировали как китч для заграничных распродаж. В Москве Григорович строил «драмбалет», махину приправленных танцами повествований: он классику не перекраивал, но развивал, правда, в тупиковую сторону. В последние десятилетия на оба театра чудесным образом сошла благодать в лице Алексея Ратманского и Валерия Гергиева (при котором появились в репертуаре Баланчин с Форсайтом), но сейчас эта славная эпоха кончилась. А дополнительно важно, что параллельно этим процессам «амортизировалось» (очень испортилось) хореографическое образование, которое есть результат трудов и традиций и запросто не может быть восстановлено даже большими деньгами.
Я, конечно, пересказываю приблизительно, но и сами авторы, повторю, далеки от последовательного проговаривания линейных концепций. Временами этой линейности хочется: вот бы, думает читатель, Гаевский ли, Гершензон ли написал бы связный том истории, где выпрямил бы и развил сложные мысли. Это желание я беру назад: мысли бывают интересны именно своей сложностью, незавершенностью, и таким самое место в переливающемся смыслами диалоге. Некоторые реалии и термины, однако, стоило бы прояснить: все же книга рассчитана на интеллектуальную общественность, а не только лишь на узких специалистов.
Что такое запись балетного спектакля по системе Степанова, какие еще есть системы записи? И не отсылайте меня к википедиям, мне нужно это знать в момент чтения, для уяснения мысли дискуссантов.
Макарова «там» (то есть за кордоном) «не позволяла себе валиться с фуэте, что в Ленинграде для нее было нормальным»: а что такое «валиться», и как эта валкость оценивается в разных культурах?
В послевоенном балете появилась агрессивность, и вот в новых редакциях «Раймонды» и «Спящей красавицы» она (агрессивность) проявилась в том, что переписывались ансамбли: но это же самое интересное, как политика или психология преломляются в танцевальном тексте, в сценической схеме, объясните, что именно менялось, картинку нарисуйте! — нету.
И что такое, наконец, «чистая перемена»? Это точный термин, употребляется несколько раз…
«Весь город»
Один из эпиграфов книги взят из мемуаров Владимира Теляковского, директора императорских театров, и помечен 1904 годом: «Грустно и в то же время смешно подумать, что, ожидая войны с Японией, у нас в Петербурге кучка лысых стариков заставляет говорить весь город о балете».
Тут занятен объем понятия «весь город». Это сорок шесть человек, знающих значение термина «чистая перемена»?
Этот мир мифологических образов, античных страстей, размашистых полетов, белых пачек традиционно — и наша книга не исключение — описывается как мир грязного белья, закулисных интриг, где чрезвычайно высока роль не то что личности, а телефонного разговора одной личности с другой. Или газетной заметки, которая способна сворачивать горы.
Исторической вехой объявляется публикация обзора американской балетной исследовательницы в американском журнале… Гм. Это «гм» у меня не ироничное. Я просто удивляюсь, как можно с таким трепетом относиться к чужой статье. Мало ли что напишет даже и умный человек.
После «мракобесного интервью» Вячеслава Гордеева в «Коммерсанте» было сочтено неуместным его пребывание на посту худрука балета Большого театра… неужели? После интервью?
Другой худрук, Владимир Васильев, звонит Гаевскому после публикации рецензии и говорит: «Вадим Моисеевич, я считал вас честным критиком».
Другой статьей Гаевского одиозный балетмейстер Олег Виноградов пользуется как теоретическим поводом объединить в одном балетном вечере свой опус с шедевром Петипа.
Мы наблюдаем за миром, где необычайно высока цена слова: и закулисного, и печатного.
Вот Гершензон целую страницу возмущенно цитирует немилые ему публикации критика А. Государева в петербургской газете «Час пик». Благородной ярости Гершензона нет предела. Я пытаюсь экстраполировать… Я сам иногда издаю книжки, они довольно охотно рецензируются прессой. Пусть бы «Час пик» хоть после каждой книжки называл меня клятвопреступником и педофилом — это проблемы «Пика». Есть десятки мест, где будет выражена иная точка зрения.
Суть, наверное, в том, что в балетном случае нет этого десятка мест… если и есть, то ровно десяток, не больше. Балетных критиков шесть с половиной человек («весь город»), любое слово в этом мире звучит как звон колокольный. Собственно, так и создается миф: не как текст, но как мир, в котором реально коротают свою странную вечность балетные люди.
С Павлом Гершензоном автор этой статьи знаком много лет. Как раз, сочиняя статью, вспомнил, как мы шли зимой приблизительно 1990 года по набережной Невы, от Эрмитажа в сторону Литейного моста. «Как подумать, — молвил Гершензон, — что все эти события произошли на таком ничтожном расстоянии… И такие последствия!» Будущий соавтор «Разговоров о русском балете» имел в виду расстояние от Зимнего до Смольного, а под событиями — Октябрьскую революцию. В этой реплике, как я сейчас понимаю, сконцентрировано то же самое гипермифологическое мышление. Судьбы мира могут быть решены на крохотном пятачке, на трех-четырех набережных, двумя статьями в важном издании. Из такого мышления рождается представление о своей деятельности как о сакральных камланиях (в книге много говорится о ритуалах, о сокровенных сущностях), а зона, в которой происходят камлания, делает эти представления справедливыми. В их рамках можно говорить, скажем, о том, что Петипа противостоял разночинцам, хотя где Петипа и где разночинцы?
Есть, однако, места, где они пересекаются, условный «петипа» с условными «разночинцами». Критик фигурного катания Игорь Порошин очень хорошо объяснял после Ванкувера поражение Евгения Плющенко: наш фигурист не выдержал занятий с мариинским балетмейстером, ухитрялся одно время кататься аж под музыку Корнелюка из «Бандитского Петербурга», а американец Лайсачек был верен классике, победил со Стравинским, то есть победил хороший вкус. Как замечает Порошин, «победил в конечном счете хороший русский вкус». Русский вкус — благодаря Баланчину — победил и в балете, правда на другом континенте.
Тут, впрочем, важна не логика, а страсть. Она порождает и священный трепет (глядя на решетку Летнего сада, Гершензон начинает заметно вибрировать от нарастающего эстетического чувства), и, понятно, закулисные дрязги. Она порождает странные сказочные эпизоды, когда тот же Гершензон (год его рождения см. в досье) пишет «положительный» текст о спектакле 1948 года, а Н. М. Дудинская его за это хвалит. Люди живут в бесконечном своем мифологическом ауте, а нам из этого аута транслируется великое искусство. Одни из нас могут считать великим искусством поточное «Лебединое озеро» (в хороший летний вечер в Петербурге может идти пять — я не утрирую! — «Лебединых озер»: в опере, в другой опере, в третьей опере, в оперетте…), другие — эксперименты датско-британских супрематистов от хореографии, но в любом случае нужно беречь жрецов.
Создания, подобные Гаевскому и Гершензону, которым не так подогнутая нога балерины может сниться в кошмарах по нескольку ночей, это золотой фонд. Если вам кажется, что над балетной сценой во время спектакля витают непонятные нервные тени, знайте, это они — жрецы. Без них балета не будет, ни классического, ни «актуального». К ним следует отнестись максимально бережно. Другое дело, что здесь я считаю справедливым вторично пихнуть своего старинного приятеля: Гершензону тоже не повредило бы побережнее отнестись к «мыслителям нижних конечностей».
Тонущая атлантида?
В книге много примеров, как инерционная махина театра перемалывала самых яростных творцов. Свойство большого организма: идеи идеями, а в оркестре, в кордебалете жуткие толпы народу, и каждый живой и действует в первую голову в соответствии с традициями школы и коллектива, какой бы перед ним ни галопировал радикальный новатор.
«Астрологическая мистика, древнеегипетский масштаб, что-то от священного ужаса тонущей Атлантиды» (стр. 169) — вот какие стихии управляют Большим и Мариинским театрами.
И, наверное, смена политических эпох, ветра времен треплют их в меньшей степени, чем более народные виды искусств?
Вот Гершензон настаивает на губительности повествовательности, на том, что балет — это танцы, искусное дрыгоножество и рукомашество, телесная практика, и тут я как зритель с ним согласен. Мне важно, когда я смотрю хореографию, слиться с призраком танцора и наблюдать, как во мне дергаются те же самые и подобным же образом мышцы. В этом эзотерическом переживании нет, казалось бы, никакой публицистики и политики…
Но книга Гаевского и Гершензона, возможно, и помимо воли авторов, выруливает и на разговор, скажем, о мэре Собчаке, о творчески содержательных девяностых, и об особенностях текущей эпохи: см. цитату из Гершензона об эволюции Валерия Гергиева.
И тут я, ловко воспользовавшись случаем, переведу разговор на близкую лично мне половину Мариинского театра: там ведь не только пляшут, но и поют. По отношению к опере маэстро Гергиев выступает как всеблагое божество, доверяя постановки максимально широкому кругу лиц, в том числе откровенно юным режиссерам, да и композиторов юных привлекая (на большой сцене поются ныне три одноактные «гоголевские» оперы совсем молодых авторов). Для меня, восторженного слушателя, не обремененного профессиональными амбициями, а желающего просто как можно больше оперы, это, казалось бы, ситуация идеальная. Но даже мне начинает казаться, что легкость, с которой Гергиев управляет оперой, свидетельствует уже о том, что божеству просто не слишком важно, что происходит в его театре.
Меня очень смущает исчезновение из репертуара спектаклей Дмитрия Чернякова и тот факт, что я больше не увижу, как тонет его Китеж: сцена, равных которой мне просто не доводилось нигде наблюдать.
Меня смущает, что и в Мариинке, и в Мариинке-3 (Концертный зал) аншлаг лишь на Верди да на Нетребко, а на других самых прекрасных спектаклях зал зияет пустыми рядами. А строится еще и Мариинка-2, и готовится к открытию Дом музыки: если везде запоют одновременно, на спектакли придется водить солдат.
Меня, может, и веселит, что «Троянцев» Гектора Берлиоза доверили фирме по производству околоцирковых шоу, мне милы казусы, но если говорить серьезно, то это просто космическое безобразие: взять да и превратить походя потенциально великое событие в дешевый фарс.
И прав Гершензон насчет «лояльности»: этот фарс находится в несомненной связи с тем, что Гергиев рекламирует по телевизору небоскреб «Охта-центра».
Досье
 Вадим Гаевский (1928, Москва).
Вадим Гаевский (1928, Москва).
Окончил ГИТИС (ныне РАТИ). Критик, историк театра, с 1992 г. профессор РГГУ (зав. кафедрой истории театра и кино). Обозреватель журнала «Театр», член редколлегии журнала «Московский наблюдатель», член международного общества историков балета (Франция). Автор более 200 работ, в том числе: «Дивертисмент: Судьба классического балета» (1981), «Флейта Гамлета: образы современного театра» (1985), «Дом Петипа» (2000). Лауреат премии им. А. Блока (2001) и премии А. Кугеля (2005). Заслуженный деятель искусств РФ. На протяжении нескольких десятилетий имеет неформальный статус главного балетного критика.
Досье
Павел Гершензон (1959, Серов).
 Окончил архитектурный институт в Свердловске. В девяностые работал в Мариинском театре. Принимал участие в реконструкции балетов «Спящая красавица» и «Баядерка» в Мариинке, «Коппелия» в Новосибирском театре оперы и балета, а также в подготовке проектов «Баланчин в Мариинском», «Форсайт в Мариинском». В течение шести лет отвечал за программы, состав приглашенных артистов и официальные каталоги Международного фестиваля балета «Мариинский». Один из инициаторов проекта «Век Баланчина. 1904—2004» (цикл спектаклей и конференция «Баланчин вчера, сегодня, завтра» в Эрмитаже).
Окончил архитектурный институт в Свердловске. В девяностые работал в Мариинском театре. Принимал участие в реконструкции балетов «Спящая красавица» и «Баядерка» в Мариинке, «Коппелия» в Новосибирском театре оперы и балета, а также в подготовке проектов «Баланчин в Мариинском», «Форсайт в Мариинском». В течение шести лет отвечал за программы, состав приглашенных артистов и официальные каталоги Международного фестиваля балета «Мариинский». Один из инициаторов проекта «Век Баланчина. 1904—2004» (цикл спектаклей и конференция «Баланчин вчера, сегодня, завтра» в Эрмитаже).




Комментарии
Чистая перемена — смена декоративного оформления, происходящая на глазах у зрителя. Не закрывая, то есть, занавес.