Искусство
В круге надцатом
О романе Анатолия Брусникина «Герой иного времени»
Шестнадцатилетний прапорщик на Бородинском поле. Стянутая мундиром фигура, худое с тонкими усишками лицо. Тысячи пуль и ядер свистят у виска: все мимо, еще рано. Жизнь только началась. Будут в ней битвы в Греции и Испании, дуэли, кораблекрушение, встреча в лесу с бешеным тигром, случайное участие в восстании 14 декабря, разжалование, ссылка.
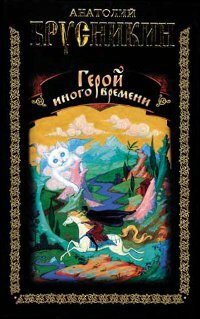 В 1842-м на Кавказе он совершит подвиг и вновь станет прапорщиком, нацепит знакомый мундир, посмотрит в зеркало. Планета свершила тридцать оборотов вокруг светила и вернулась в прежнюю точку.
В 1842-м на Кавказе он совершит подвиг и вновь станет прапорщиком, нацепит знакомый мундир, посмотрит в зеркало. Планета свершила тридцать оборотов вокруг светила и вернулась в прежнюю точку.
Изменилось ли что-нибудь… за тридцать-то лет?
Литературный коктейль
Восторженная Даша, дочь генерала, приезжает в Серноводск. Вроде тут и война, вечная разборка с абреками, но и модный курорт, заточенный по образцам лучших карлсбадов. В поле зрения кучка петербургских «брийантов», золотомолодчиков, тянущих лямку вечного пикника и сопровождающих военные вылазки на правах экскурсантов. Отважный вояка Мангаров, недалекий, но благородный, полюбивший Дашу с первого взгляда. Хладнокровный супермен Никитин — солдат с томиком Адама Смита на английском. Это тот самый, разжалованный. О Никитине Даше рассказала по дороге прекрасная незнакомка, Даша наблюдает за Никитиным сначала ради незнакомки, но есть такие мужчины, которых нельзя не полюбить. При Никитине страшный аварец-головорез по имени Галбаций, ненавидящий всех русских, кроме своего кунака: головорезу Даша чуть попозже подарит белого голубоглазого котенка.
При отце Даши — двусмысленный жандарм Честноков, беснующийся, когда его фамилию произносят без внутренней «т». При жандарме абрек Эмирхан, при Эмирхане… словом, щедрая цепочка образов, выписанных из русской кавказской литературы. Мангаров составляет свод правил жизни, совсем как молодой граф Толстой в той же кавказской армии, а родственность книги «Кавказскому пленнику» и «Герою нашего времени» прямо подчеркнута издательской аннотацией.
Лермонтов между тем погиб в этих же краях ровно год назад, и на той скале, где он дрался, не только вино распивают, но и устраивают дуэль за дуэлью новые невольники чести. Герои Пушкина тоже постоянно поминаются, героиня сравнивает свое поведение с Татьяниным. Кто-то из персонажей был знаком с Байроном (толстый, жеманный, тьфу; Лермонтов тоже описан как препротивный тип). «Металитературности» вообще много, вся структура напоминает роман «Лунный камень»: после краткого вступления большущий кусок написан от лица одного неглавного персонажа, а вторая часть — несколько коротких фрагментов от лица прочих действующих лиц.
Лица хорошенько перемешаны, взболтаны, некоторых из них периодически похищают, потом освобождают, готовится грандиозная битва за Семиаулье, в которой авось да решится судьба Кавказа. В долине можно одновременно захватить Хаджи Мурата и Шамиля (его по-свойски кличут Шмелем), и будет тогда много денег и орденов, и, может быть, даже воцарится мир.
Все коллизии развиваются и разрешаются довольно ловко, событиями управляет опытная рука, экзотика выписана не без вкусностей, присутствуют аллюзии как на телевизионную рекламу, так и на Е. Гришковца, и если вы не читали Брусникина (это его второй роман), то один раз очень даже можно, не заскучаете.
Ex ungue leonem
Первый Брусникин назывался «Девятый спас», и, когда он вышел, многие наблюдатели полагали, что автор романа — Борис Акунин. И инициалы совпадают, и недаром издатели вложились в беспрецедентную рекламу книги дебютанта (перетяжки висели в Москве по всему центру), и слух сами они и пустили, а главное, пусть похуже, но зато похоже.
«Спаса» я не читал, но «Герой» точно написан хорошо знакомой рукой. Хозяин копирайта указан как A.O. Brusnikin: возможно, и впрямь некоторое «АО», то есть соавторство, хотя интонации сильно совпадают, скорее, маэстро сочинял соло.
От высокого Акунина в книжке сцена заочного измерения веса героини, пусть не так проработанная, как, скажем, сцена подсчета поворотов кареты в «Коронации», но все равно хорошая.
От Акунина повседневного рассуждения о гигиене, взгляды из разных культур на одни и те же бытовые вещи, экзотический друг-слуга (Фандорину помогает японец, тут аварец) и пучок подчеркнуто жестоких развязок.
Идея проиллюстрировать книгу рисунками М.Ю. Лермонтова тоже в акунинском стиле; не сами же издатели додумались.
Что касается «похуже», то в анализе на высокохудожественность последние творения мастера особо не нуждаются. Была бы занимательность, а остальное как-нибудь: да, занимательность по-прежнему налицо. Акунин — проект Чхартитшвили, а Брусникин — проект Акунина, проект проекта, так что… «Перебеливать и убирать из письма лишнее — это самое приятное», — говорит в начале романа прекрасная незнакомка, и это выглядит самоиронией автора, которому заниматься самым приятным немножко недосуг.
Так что придираться не стану, но по двум пунктам все же претензии выскажу: вторую чуть позже, а первая заключается в том, что роман буквально переполнен подслушиваниями и подглядываниями, за которые еще Набоков шпынял Тургеневу. Одно подслушивание в русском романе — дань традиции, два — прием уже рискованный, хотя при хорошем исполнении еще стильный, три — уже неловкий перебор. Здесь — полдюжины. Слишком легких сюжетных гвоздей навтыкал г-н Брусникин.
Игра в грабли
Есть ощущение, что Акунин пошел по второму кругу. Завязка — девушка едет в действующую армию — «цитирует» завязку «Турецкого гамбита», тоже второго романа фандоринского цикла. Сам Фандорин перенаряжен в новые одежды и переименован, но что Никитин есть вариант того же героя, даже подчеркнуто. Эраст, как вы помните, выигрывает все пари, Никитин, напротив, все пари проигрывает. Так вот, в этом заходе на второй круг мне видится не писательская расслабленность, а концепт. Что-то вроде: я вожусь с тобой, дорогой читатель, уже второе десятилетие… что ты усвоил? Пройдемся по старым прописям?
Или даже не второе десятилетие, а эдак от лица всей русской литературы: я вожусь с тобой уже третье столетие, любитель изящной словесности… есть прок?
«Зря у нас считают, что с простыми людьми можно обращаться неучтиво, — учит смышленая девица Даша Фигнер. — В слугах подчас больше достоинства, чем в господах, а в солдатах — больше, чем в их начальниках». Зря, конечно, у нас так считают. Хорошо Даше, с ней даже в кавказском плену обращались как с госпожой, а простые люди, которые не умели обращаться учтиво ни с господами, ни с себе подобными, до власти к тому моменту еще не добрались.
Или вот дискуссия, «больший или меньший спрос в смысле человеческих качеств надо предъявлять к гению». Как мог Лермонтов опускаться до мелкого разврата, склок… это же предательство Дара! С другой стороны, к людям следует подходить с разной меркой. Кто-то крадет у человечества, а кто-то ему прибавляет, и потому к гению нужно быть снисходительным… Кое-кто из спорщиков доживет до появления книжки, целиком посвященной рассусоливанию вопроса «тварь я дрожащая или право имею», да с Наполеоном себя герои и в отчетном романе сравнивают. Уж не придуман ли сам роковой вопрос каким-нибудь заоблачным масоном на нашу погибель: сидит русский человек с ромашкой (или, что близко по смыслу, с рюмашкой), гадает «тварь — не тварь», а жизнь проходит, века струятся.
Или Чаадаев... Да, утонувший в пыли библиотек сумасшедший философист Чаадаев актуализируется в романе Брусникина. Суждение о том, что мы обречены быть провинцией и охвостьем мировой культуры, что весь смысл России в том, чтобы демонстрировать людскому роду, как не надобно обходиться со своим народом… это суждение одному из героев кажется смелым и новым. Вскоре оно перестало быть новым, а вот смелым оно является или не является в зависимости от эпохи. Много раз меняло это суждение свой смысл и силу, разве что официальным лозунгом власти не становилось. А было бы эффектно: я, имярек, новый правитель России, с тяжким достоинством принимаю властное бремя и всего себя угроблю, не щадя живота, дабы продемонстрировать в полный рост всему человечеству, как не надобно править…
Или, наконец, Кавказ и его отношения с Россией: вот уж грабли, срабатывающие раз за разом удивительно однообразным макаром.
Котя для абрека
Брусникин подходит к кавказской теме как положено: взвешенно, аккуратно, «политкорректно».
Есть, скажем, скот Эмархан, которому Война снится с большой буквы и в виде румяной бабы с толстыми грудями, наполненными сладким молоком. «Дай Аллах, чтобы никогда не заканчивалась. Что мужчины Кавказа без войны? Все равно как сокол в краю, где перевелась добыча». Эмархан челночит через линию фронта, в одну сторону везет патроны, в другую затворы. Рискованно, конечно: узнает Шамиль про «в другую сторону», выпустит кишки без соблюдения конвенции о неприменении пыток. Но много ведь таких челноков, и много средь них живых.
Парного русского скота зовут майором Честноковым. У него есть агент Свинорыл, удобная жандармская должность, он прикрывает и обеспечивает вояжи Эмархана, ему тоже выгодно, чтобы пушки не затыкались. Не знаю, как нынче на Кавказе с Эмарханами, водятся, наверное, но Честноковы там точно водятся, да и не только там: война выгодна и московскому менту, которому бывает полезно для семейного бюджета взять взятку с кавказца, везущего взрывчатку куда-нибудь на Красную Пресню.
Оба скота считают, что управляют своим напарником: совершенная зеркальная композиция.
Выдержана она и при описании скотства коллективного, армейского. Кавказцы вываливают перед наступающими русскими баррикаду из голых тел (частично живых) наших сородичей. Отрезанные головы наличествуют в достаточном ассортименте. В качестве симметричной альтернативы описана бессмысленная и беспощадная русская зачистка оставленного людьми кавказского селения: «разнести аул до последнего камня, посевы вытоптать лошадьми, фруктовые деревья срубить, колодцы испортить». Вопрос «зачем?» читатель себе не задает, ибо вооружен более энергичными эмоциями: подобные операции наши воины еще совсем недавно проделывали в Чечне и с заселенными аулами.
Представлен непременный в акунинских романах отстраненный взгляд из иной цивилизации — туземная девушка жалеет русскую пленницу: «Увезут ее, дуру несчастную, назад. Будет там свиней есть, ходить с непокрытой головой, с голыми плечами».
Представлена притча про птичку: турецкий султан подарил русскому царю кавказские территории, и кавказский старик говорит русскому генералу: «Я дарю тебе вон ту птичку. Скажи ей, что она теперь твоя».
И без привычных крыльев дискуссии, нужен ли вообще России Кавказ, не обошлось. Одни считают, что, если оставить туземцев в покое, они все равно будут терзать нашу равнину разбойничьими вылазками (вариант: соберут в сакле атомную бомбу), так что нужно их «замирять», вгонять в цивилизованный «газон». Никитин стоит за то, что нужен порядок в собственном доме, а соседи пусть сами у себя разбираются.
Прописные истины или прописные заблуждения, но в любом случае слишком прописные. Требуется свежее решение… ну мы о романе говорим: хотя бы выпадающий из стандартного сценария художественный ход.
И Даша дарит абреку белого пушистого голубоглазого котенка, которого нарекают Ангелом. Животное пробуждает в душе дикаря светлые чувства — сначала к самому себе, а потом дикарь до того оттаивает, что и человеческой любви научается. И тут уж даже самый благожелательный критик вынужден заметить, что выполнен данный котенок в стилистике клюквенных (не отсюда ли брусника в псевдониме?) слюней и соплей.
Он еще и на обложку романа сиятельным символом вынесен, высовывается с крылышками из-за гор. На обложке он как раз весьма симпатичный, да и сам по себе симпатичный, все видали маленьких котят, но в качестве центрального символа книги он, конечно, недопустимо фальшив и сусален.
Хорош рецепт замирения Кавказа(!) — подарить абреку котенка. Писатель, положим, не выписывал рецепта, но ведь так или иначе он учит читателя… дарить котят!
Нас бы другому научить. Вместо того чтобы атрибутировать кавказцу совершенно несвойственную и ненужную ему карамельную сентиментальность (тот прочтет — только усмехнется над наивностью русского сочинителя), неплохо бы перенять кавказское умение (и ежесекундное желание, которое предшествует всякому умению!) постоять за себя и свои интересы.
Разговоры о порочности (и уж точно невыгодности) лазания в чужие монастыри со своими уставами плохо переводятся в практическую плоскость. Пора, может, рассуждать о том, что нам реально не нужны территории, которыми мы не можем по факту управлять? Не следует ли поддержать какими-нибудь хитрыми способами тех сторонников независимости той же Чечни, которым нужно именно свое государство, а не возможность, укрываясь освободительными лозунгами, сосать из титек всех участников регаты? Не сосредоточить ли живительные потоки на христианских газонах, предоставив мусульманским цветникам благоухать автономно? Если уж касается писатель горючей темы, то пусть не только в постмодернизм-с-лермонтовым забавляется, но и говорит о действительно серьезных вещах.
Впрочем, необходимость учиться стоять за себя насущна и независимо от грядущих очертаний здешней государственности.
Много Кавказа
Вот одно актуальное очертание: таблица чемпионата России по футболу. В премьер-лиге в этом сезоне из шестнадцати команд четыре представляют наш самый шебутной регион: Нальчик, Грозный, Махачкала, Владикавказ. Всю дорогу были одна или две команды, а тут мигом четыре. Болельщики на сетевых форумах ворчат о необходимости подкоротить абреков не только лишь из расистских соображений. На Кавказе слишком активно «работают с судьями» и далеко не всегда гостеприимны к футболистам: вратарь ЦСКА Акинфеев жаловался уже в этом сезоне, что простоял всю игру, оскорбляемый с трибун подлыми словами, а в прошлом сезоне футболисты «Химок» провели «в Тереке» (так говорят футбольные люди: выезд не «в Пермь», а «в Амкар», не «в Раменское», а «в Сатурн») ночь перед игрой, лежа на полу гостиницы, по стене которой кто-то из чего-то стрелял. И есть ли у футбольных властей собственно власть, которую нужно в таких случаях употребить, просто неизвестно, ибо употреблять — опасаются.
Дополнительно коробит способ, которым просочилась в премьер-лигу владикавказская «Алания»: она заняла место приказавшего долго жить ФК «Москва». Случилось это после того, как на должность начальника кавказского округа поставили бизнесмена Хлопонина, структуры которого как раз финансировали «Москву». И очень удачно они ее финансировать прекратили, клуб исчез, а свято место досталось первой по очереди «Алании». Получается, что Хлопонин подарил Кавказу место в премьер-лиге. «Хлопоша хороший!», был такой слоган на его давних выборах в Красноярске. Сделал и тут широкий входной жест.
Только вот смотрите цитату из негодяя Эмархана — ту, что про верблюда и пустыню. Очень велика вероятность, что суетливый символичный («Москву» зарезали, не какую-то «Томь»!) подарок оценен, как обычная слабость русского, наивно задобряющего туземца мясистым пряником.
Иному человеку подари пушистого котенка: он его сожрет с хвостом и перьями и потребует следующего.
Другое дело, что футбольные новости последних недель дают повод порассуждать о мазохистских склонностях моего народа и безо всякой связи с Кавказом. Нидерландский тренер Дик Адвокат не далее как прошлой осенью расставался с «Зенитом» наглейшим из возможных способов, убивал команду, добивался насильственной отставки (добровольная невыгодна), чудом не оставил сине-бело-голубых без места в тройке… Нагадил, короче, где ел, по полной программе. А теперь тот же самый футбольный начальник Фурсенко, которого Адвокат опускал в Петербурге, зовет его возглавить сборную России за миллион евро в месяц.
Года не прошло! Никакой Брусникин не поможет: нас вообще ничему не учит история.
Потараканить пухлую дебелую
— Поруганная честь девы и преданная дружба вопиют о мщении! — шумит один из геров «Героя иного времени», а другой ему замечает:
— Вы не могли бы изъясняться без театральности?
И то: почему так популярен у нас «ретродетектив», сей декоративный и по идее довольно маргинальный жанр? Не только безусловно качественные Акунин с Юзефовичем популярны, уже ведь выросли шеренги последователей.
«Едва разомкнутые сонные вежды сощурятся на сияние восходящей денницы, любил Иван Иванович потараканить пухлую дебелую», — издевается Брусникин над своим собственным жанром, зная, что все равно раскупят.
Работает, безусловно, общечеловеческий принцип: искусство дадено для утонченных наслаждений, и читать потому приятственнее о чем-то чуть-чуть отдаленном, не прямо уж о самом себе (о самом себе — это протокол допроса в прокуратуре), но о таком отдаленном, которое узнаваемо и понятно или кажется таковым.
Но есть и другая причина. Нам ведь не хочется думать, что России кирдык, как бы это слово ни писать, через «и» либо через «е». Нет, мы живем и работаем, и все непременно наладится: не прямо к этому первомаю, так в историческом времени. Ретродетективы — это такая портативная история, над которой создающий ее и потребляющий имеет власть. Будто бы можно вернуться в прошлое и что-то исправить. Благородные герои «иного времени» проиграли свою ситуацию, но мы ее можем спокойно рассмотреть, оценить, проанализировать… в нужный момент поступить правильно!
— По игрушечной истории в книжках я научусь обращаться с настоящей!
— Канэшна, дарагой! Белый-белый сладкий кошка принес?



Комментарии
Прочитал роман.
Ерунда, а не рецензия. Ничего из нее не ясно: читать али не читать.
А роман... Ну, на любителя, так скажем.
Зависть грызет: некоторые люди решают по рецензиям, читать или не читать книгу! Удобно таким людям, да
Боюсь спросить, для чего читаете рецензии Вы. Неужто сравнить ощущения от прочитанного? Или, может, получше разобраться в тонкой душевной организации написавшего рецензию?
Так вот.
Подавляющее число людей читает рецензии на книги/фильмы/и пр. только для того, чтобы понять заранее: понравится лично им эта весчь али нет. И если автор рецензии растекается мыслью по древу, вертит задом и выписывает красивые словеса вместо того, чтобы внятно донести до читателя то, что требуется, значит автор этот - бездарь, а не журналист, и ему вместо статей надо писать книженции.
А мне рецензия понравилась- она литературная и про современность "чегой-то говорит". По крайней мере, она не хулит автора. А читать или не читать-лучше полистать книгу самому 15-20 минут, так как это не возбраняется.
Чтобы сохранить Кавказ- надо считаться с его жителями, ничего не поделаешь.Это лучше, чем отдать его под протекторат Турции или Ирана. Тогда история начала бы повторяться заново и жертв было бы больше с обеих сторон.
Отдать персам или туркам, или же вырезать жителей полностью. Считаться - будет то же самое, что имеем несколько веков.