Экономика
Лечить не калеча
Перепрофилирование — оправданное и неоправданное
Неконтролируемый процесс перепрофилирования экономических объектов уже привел к потере значительной части российского промышленного потенциала, научных школ, технологий и специалистов. В то же время продолжают звучать предложения о перепрофилировании «неконкурентных» объектов буквально во всех сферах экономики, включая целые города и местности.
Грядет очередная приватизация
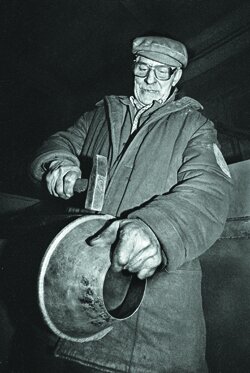 В России грядет очередной крупномасштабный этап приватизации. По данным информагентств, Минэкономразвития запланировало сократить число стратегических акционерных обществ с 211 до 41, а стратегических федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов) — с 230 до 159. Правда, о сроках начала избавления государства от стратегических объектов пока неизвестно, но вопросы уже возникают. Главный из них — зачем? В период кризиса больших денег за эти предприятия не дадут (тем более что многие находятся не в лучшем экономическом положении), и бюджет значительных доходов не получит, а вот что произойдет с приватизированными АО и ФГУПами, в чьи руки они попадут, по опыту прошлых массовых разгосударствлений, не может не вызывать беспокойства.
В России грядет очередной крупномасштабный этап приватизации. По данным информагентств, Минэкономразвития запланировало сократить число стратегических акционерных обществ с 211 до 41, а стратегических федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов) — с 230 до 159. Правда, о сроках начала избавления государства от стратегических объектов пока неизвестно, но вопросы уже возникают. Главный из них — зачем? В период кризиса больших денег за эти предприятия не дадут (тем более что многие находятся не в лучшем экономическом положении), и бюджет значительных доходов не получит, а вот что произойдет с приватизированными АО и ФГУПами, в чьи руки они попадут, по опыту прошлых массовых разгосударствлений, не может не вызывать беспокойства.
На протяжении вот уже почти двадцати лет российское государство каждый год избавляется от большего или меньшего числа принадлежащих ему активов, однако экономика от этого эффективнее не становится (на долю компаний «новой экономики» в ВВП РФ приходится около 5%, а в развитых странах Запада — от 40 до 60%). Напротив, некогда вполне успешно работавшие предприятия (в том числе обладатели уникальных технологий, производящие редкую и важную для страны продукцию) были перепрофилированы новыми владельцами либо под выпуск продукции гораздо более низкого технического и технологического уровня, либо — что происходило и происходит гораздо чаще — былой профиль просто уничтожался, а недвижимость и земля использовались по другому назначению.
Станки под прессом перепрофилирования
На первом заседании коалиции промышленного развития 13 июля 2006 года президент российской Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий Самодуров привел весьма показательные цифры и факты по сектору, являющемуся одним из основных как в индустриальном, так и постиндустриальном обществе. По его словам, в мире только 32 страны занимаются производством металлообрабатывающего оборудования, станков, прессов и инструментов. Это очень высокотехнологичная отрасль, требующая определенного интеллектуального творческого потенциала, научных и фундаментальных заделов. Так вот, за время реформ в стране было перепрофилировано, а по сути, уничтожено около 40 предприятий станкостроения. В основном эта участь постигла предприятия и НИИ, расположенные в столичных и областных центрах. Преимущественно это Москва (такие станкостроительные гиганты, как Московский станкостроительный завод имени Орджоникидзе, Московский завод шлифовальных станков и др.) и Санкт-Петербург.
Самодуров привел и конкретные примеры. Там, где был завод шлифовальных станков, сегодня рынок. В целом ряде научно-исследовательских институтов — торговые центры. В Санкт-Петербурге, некогда ведущем городе по станкостроению, где были такие мощнейшие предприятия как станкозавод им. Свердлова, завод им. Ильича и другие, оно практически разрушено.
Печальная судьба постигла Санкт-петербургский завод прецизионного станкостроения, один из двух заводов в мире (вторым является американская фирма «Браянд»), занимающихся производством станков для приборных подшипников. Они используются в системах наведения, гироскопах, в ракетной, подводной и танковой технике. Это очень маленькие подшипники с посадочным местом 1,5 мм.
По словам Самодурова, в 2005 году на завод под маркой эффективного собственника пришли новые хозяева. За полгода было распродано технологическое оборудование, а сам объект переделан под торговый центр. Промышленные корпуса разрушены. «Страна потеряла технологическую и оборонную безопасность. Это один конкретный пример. Таких примеров можно приводить десятки», — констатировал глава «Станкоинструмента».
Спустя три года, в июне 2009 года, начальник вооружения Вооруженных сил РФ, заместитель министра обороны Владимир Поповкин сделал заявление, которое вполне укладывается в логику происходящего. Россия будет закупать станочный парк для оборонных предприятий за рубежом, сообщил он. «Нам надо покупать станочный парк за рубежом. Кто из оборонных предприятий так будет поступать, тех будем поддерживать, потому что речь, в конечном счете, идет о защите страны», — сказал заместитель министра.
А вот каковы результаты перепрофилирования и выбытия производственных мощностей в машиностроении в целом. Импортные поставки продукции машиностроения для нужд экономики России в 2008 году, по данным Союза машиностроителей России, составили: по бульдозерам, трубоукладчикам и экскаваторам — 78%, коммунальной технике — 93%, лесозаготовительной технике — 74%, колесным тракторам малого и среднего класса — 91%, комбайнам — 50%, по навесному оборудованию для сельского хозяйства — 85%. Данные показатели являются фактическим приговором для российских производителей техники. Выходит, торговые и офисные центры, рынки, парковки, гостиницы, элитная недвижимость и прочие объекты, в которые были перепрофилированы некогда редчайшие высокотехнологичные предприятия и НИИ, оказались более важными и нужными стране? Ответ кажется очевидным, но почему-то события и в других секторах экономики развиваются по схожему сценарию.
Брошенные мишки с оторванными лапами
 Вот как характеризует ситуацию в минерально-сырьевой отрасли вице-президент РАЕН профессор Евгений Козловский: «Приватизация предприятий в геологии в последние годы шла непродуманно и в ущерб государственным интересам. По оценкам, из 650 полевых предприятий приватизировано 300, при этом многие из них были акционированы по частям и изменили профиль своей деятельности. С 1996 по 2004 год в ведении Министерства природных ресурсов РФ находилось 193 предприятия, из них прекратили существование, перепрофилированы, переданы в собственность субъектов Российской Федерации и реорганизованы 82 предприятия, которые практически потеряны для геологической отрасли. …В настоящее время в ведении Роснедр находится всего 22 предприятия и четыре учреждения, и они не способны выполнять возложенные на них задачи».
Вот как характеризует ситуацию в минерально-сырьевой отрасли вице-президент РАЕН профессор Евгений Козловский: «Приватизация предприятий в геологии в последние годы шла непродуманно и в ущерб государственным интересам. По оценкам, из 650 полевых предприятий приватизировано 300, при этом многие из них были акционированы по частям и изменили профиль своей деятельности. С 1996 по 2004 год в ведении Министерства природных ресурсов РФ находилось 193 предприятия, из них прекратили существование, перепрофилированы, переданы в собственность субъектов Российской Федерации и реорганизованы 82 предприятия, которые практически потеряны для геологической отрасли. …В настоящее время в ведении Роснедр находится всего 22 предприятия и четыре учреждения, и они не способны выполнять возложенные на них задачи».
Напомним, что СССР, для которого ресурсная составляющая как отечественной экономики, так и экспорта была в числе национальных приоритетов, создал одну из самых мощных в мире систем исследования недр и обеспечения прироста запасов. Она включала 50 научно-исследовательских институтов, 60 научно-производственных (в том числе территориальных) организаций, 30 заводов по выпуску геофизического, бурового и другого оборудования. Это обеспечило опережающую разведку недр и четкую ориентацию на открытие необходимых полезных ископаемых. В последние 15 лет воспроизводство запасов, напротив, стало резко отставать от уровней добычи. По оценке Евгения Козловского, сегодня в России практически исчерпан поисковый задел, являющийся единственной научной основой для последующего наращивания разведанных запасов. А ведь сырьевые ресурсы — это, пожалуй, единственное, что нас пока еще по-настоящему кормит.
Еще одной отраслью, которую накрыла не волна, а, пожалуй, настоящее цунами перепрофилирований, — отечественная легкая промышленность. В советское время швейная, обувная или текстильная фабрики работали почти в каждом городе, и зачастую это были градообразующие предприятия. В 1990 году в легкой промышленности были заняты 2,3 млн человек (в основном женщины), и производили они 12% ВВП страны.
Сегодня на 16 тыс. предприятий легкой промышленности (из них 12% — малые) работает около 500 тыс. человек. При этом доля продукции легкой промышленности в ВВП страны сократилась до 0,9%. Часть промышленных объектов просто заброшена, а в другой чего только не размещается — от коптилен до складских терминалов. Итог такого перепрофилирования следующий. По некоторым данным, от 60 до 80% от всей реализуемой в России швейной, текстильной, обувной и прочей продукции легкой промышленности составляет иностранный контрафакт, а сотни тысяч российских женщин, выбывших в результате перепрофилирования из привычного трудового процесса, торгуют этим самым сомнительным ширпотребом на рынках и в других местах скопления народа.
Печальна судьба и отечественных игрушек. Большая часть предприятий, их производивших, также была перепрофилирована. В итоге, по оценкам специалистов контрольных органов, доля вредных для здоровья, травмоопасных и некачественных игрушек иностранного производства достигает в российских торговых сетях и на рынках 70—85%. Доля развивающих и обучающих игрушек и игр снизилась с 35 до 3%. А ведь игрушка и ролевая игра во многом формируют психическое и интеллектуальное развитие, а также поведенческую модель и характер будущей личности. Ко всему прочему качественные игрушки значительно подорожали в цене и перекочевали в разряд малодоступных для большинства населения страны товаров.
Несколько в меньшей степени подверглись перепрофилированиям отечественные производители спортивной и туристической продукции. Тем не менее волна низкокачественного импорта забила редкого выжившего российского производителя и здесь. Футбольные мячи, не живущие больше месяца, велосипеды, начинающие разваливаться через полгода, рвущиеся и ломающиеся предметы спортивного и туристического инвентаря — все это, к сожалению, повседневная практика не только граждан-потребителей, но и всевозможных учреждений — от детских садов до школ олимпийского резерва.
Системные последствия
Перепрофилируется все, независимо от степени важности и нужности стране. Перепрофилируемый объект рассматривается как конкретный предмет собственности, долженствующий приносить прибыль в любом виде и качестве, если это не противоречит действующему законодательству. При этом не учитывается, что практически все экономические объекты, достающиеся новым хозяевам, были созданы в период плановой экономики, а значит, с расчетом встраивания их в хозяйственные, сырьевые, энергетические и прочие производственные цепочки, а также с учетом их социального значения для населения данного района, города, области, края, наконец, страны в целом. Перепрофилирование в 99% случаев имеет необратимые последствия. Ведь промышленный объект не ларек, который может сегодня торговать ширпотребом, завтра — пивом, а послезавтра превратится в будку металлоремонта. Причем необратимы эти последствия не только для самого объекта.
Во-первых, выбытие определенного производственного звена нарушает работу всей цепочки, а иногда и целой отрасли. В ряде случаев цепочка просто перестает существовать, а страна переходит на импорт данного вида продукции.
Во-вторых, раньше в каждом регионе дублировался набор жизнеобеспечивающих отраслей (топливно-энергетическое хозяйство, строительная индустрия, легкая, пищевая промышленность, машиностроительные и ремонтные предприятия). C перепрофилированием одного или нескольких экономических объектов рушилась и продолжает рушиться не только вся цепочка производства и жизнеобеспечения, возникает вопрос об исходе из данного региона наиболее перспективной рабочей силы и трудоспособного населения. Не надо забывать, что промышленное освоение Востока и Севера носило в советские времена выборочный характер с целью создания опорных индустриальных пунктов (баз), с помощью которых в разработку вовлекались бы новые ресурсы и территории. Перепрофилирование или закрытие системообразующих объектов таких индустриальных районов ведет в конечном итоге к фактической потере данных территорий для экономики, а возможно, и вообще для страны. Та же проблема относится и к так называемым моногородам, которых, согласно исследованию Института региональной политики, сегодня в России насчитывается 460. Это составляет 40% всех российских городов, а проживает в них и прилегающих к ним районах 25% населения страны.
В-третьих, перепрофилирование, изменение назначения, отказ от использования способствовали практически полной утрате внутренней (а как следствие — внешней) конкуренции научных школ и производств, которая, несмотря на огульное отрицание, в СССР существовала. Вспомним хотя бы банальные «Жигули» и «Москвич». Аналогичная конкуренция существовала по всем группам товаров народного потребления (за исключением очень специфических). Была она и в других отраслях промышленности. Достаточно сказать, что в авиастроении (в особенности военном) таких конструкторских школ и модельных рядов было в разные годы от четырех до шести.
Наконец, в-четвертых, массовое перепрофилирование объектов во всех секторах экономики привело к потере технологий (нередко уникальных), носителями которых были люди, выбывшие из данного технологического процесса, потере квалификации и переходу в низшие экономические сегменты миллионов людей. По данным отраслевых специалистов, только в авиакосмической сфере безвозвратно утрачено порядка 2000 технологий и производств целого ряда специальных материалов.
Потеря работы в результате приватизации или перепродажи промышленного объекта и его последующего перепрофилирования, является одной из главных причин недоверия россиян к представителям бизнес-сообщества. Так, уровень доверия к бизнесу в России за последний год снизился на 10% и на начало 2010 года составил 42% — ниже, чем в ряде европейских стран и в США, сообщается в докладе компании Edelman Trust Barometer, презентованном 26 февраля текущего года в Москве. В России, отмечают составители доклада, за последний год произошло самое серьезное сокращение доверия к бизнесу среди всех исследуемых компанией стран.
«Ржавый пояс» и капризные осси
Зарубежный опыт, в отличие от российского, выглядит не так однозначно. Дело в том, что в большинстве европейских демократий частный собственник не может по собственной прихоти сделать многое из того, что хотел бы, поскольку государством установлены жесткие рамки, в частности определяющие, как он может использовать объект собственности и какие правила он должен соблюдать при его работе. Государство также устанавливает довольно жесткие права и обязанности в его взаимоотношениях с работником при участии профсоюзов (последние тоже играют немалую роль в принятии решения о перепрофилировании).
Вместе с тем примеры США и Германии говорят о том, что никакие меры, регулирующие и ограничивающие своеволие бизнеса, а также различные методы государственной поддержки и стимулирования деятельности (в виде госзаказов, кредитов, прямой материальной помощи, выкупа у собственника в государственное владение) не являются гарантией успешности перепрофилирования или абсолютной защитой от смерти объекта экономической деятельности. Примеры успешного перепрофилирования в тех же США в различных секторах экономики можно перечислить буквально по пальцам. Об этом, в частности, свидетельствуют различные концепции и попытки осуществить массовую конверсию предприятий ВПК, которые были признаны неудачными и от них отказались. Американцы пошли другим путем и нашли способы сохранения данных КБ и производств, в частности, благодаря углублению и интенсификации работ по разработке и выпуску продукции двойного назначения, внедрению военных технологий в гражданское производство, развитию сервисного и сопутствующего сегментов, инновационного и конструкторско-экспериментального направления деятельности, международной кооперации и привлечения инвестиций...
В чисто гражданском секторе таких усилий по сохранению, модернизации и развитию в меняющейся экономической обстановке не предпринималось. И сегодня множество пустующих заводов и фабрик, руины городских зданий являют собой неприглядную картину жизни целого района на северо-востоке США, ранее служившего местом сосредоточения тяжелой промышленности. В результате за ним закрепилось название «ржавого пояса». Детройт, Филадельфия, Кливленд, Питтсбург, Ньюкасл (штат Пенсильвания) — эти города, расположенные на территории «пояса», долгое время были локомотивом экономики США, а сейчас превратились в зону запустения и социального неблагополучия. По итогам 2008 года Детройт был признан худшим городом Америки. Правда, в США наиболее острые проблемы удалось локализовать преимущественно в данном поясе. Властям, бизнес-сообществу и населению удалось избежать массового разгромного, бесконтрольного перепрофилирования и обвального закрытия экономических объектов по всей стране. И это несмотря на Великую депрессию, рецессию 1970-х годов, да и нынешнюю, не самую лучшую экономическую ситуацию.
Германия после воссоединения пострадала в этом отношении гораздо больше. Особенно восточная ее часть. Берлин, бывший некогда одним из наиболее развитых индустриальных городов Европы, пережил перепрофилирование и закрытие многих производств. В частности, в 2006 году в Восточной и Западной частях Берлина в машиностроении осталось 5% имевшегося до этого промышленного потенциала. Несмотря на это, Германии, как и США, удалось сохранить высокую степень индустриализации экономики. Промышленность — основное направление специализации ФРГ в мировой экономике. В совокупном экспорте страны ее доля составляет 87%.
При этом в социальном плане в Германии есть один немаловажный нюанс. Несмотря на то, что экономика страны организована по принципу так называемой социальной рыночной экономики, характеризующейся сочетанием социальных гарантий и рыночной свободы, а ежегодные вклады федерального правительства на выравнивание ситуации в восточных землях составляют около 100 млрд долларов, немцы не очень довольны происходящим. Вот весьма наглядная иллюстрация того, как население воспринимает реформирование, не в последнюю очередь сопровождавшееся перепрофилированием и просто закрытием массы промышленных объектов. Особенно это касается Восточной Германии, где пресловутое перепрофилирование во многих местах превратилось в тотальную деиндустриализацию, усугубляющую проблему хронической массовой безработицы. В этих условиях не так уж шокирующе выглядят результаты опроса, проведенного недавно институтом исследования общественного мнения Emnid, согласно которому 80% жителей Восточной Германии и 72% респондентов на западе страны заявили о том, что вполне могли бы жить в социалистическом государстве, таком как ГДР, если им будет гарантирована работа, безопасность и социальная защищенность. И вряд ли покажется странным, что после стольких лет совместной жизни, лишь 28% респондентов на востоке Германии заявили, что считают свободу главной политической ценностью.
Возрождение вместо разгрома
По разным данным, перепрофилирования сегодня требуют до 50% всех промышленных объектов России. О том, к чему привело и пока продолжает приводить волевое перепрофилирование, сказано выше. Если процесс продолжится подобным образом, то в недалеком будущем в отечественной индустрии останутся «труба» с наполнителями, атомстрой и ограниченный сегмент ВПК, ориентированный на выпуск экспортной продукции со значительной долей иностранных комплектующих (в электронике по отдельным позициям до 100%).
Чтобы этого не произошло, в основу перепрофилирования должен быть положен ключевой стратегический принцип — возрождение (где это необходимо) и развитие конкретных предприятий в различных сегментах экономики. Перепрофилирование необходимо проводить с учетом базовой специализации объекта, его места и значения в экономике и социальной карте страны, перспектив создания сопутствующих производств и других видов деятельности, важных как для экономики, так и для развития данных территорий. Экспортная составляющая и мировая конкуренция играют, безусловно, важную роль, но мы видим повсеместно, во-первых, что внутренний рынок и ориентация на него отечественных производств в значительной мере определяет устойчивость национальной экономики, да и способствует притоку в нее инвестиционных средств. А во-вторых, обращает на себя внимание безусловная поддержка местных производств со стороны государства, повышение их живучести, в том числе и за счет частичного и продуманного (а не разгромного) перепрофилирования. Ведь оно должно приспособить предприятие (часто оказавшееся по разным причинам в непростом положении) к успешному решению новых задач, ставящихся временем и обществом. А этого, к сожалению, пока не происходит.




Комментарии