Экономика
Наше недалекое зарубежье
Торможение на пути углубления экономического сотрудничества противоестественно
21 мая в Санкт‑Петербурге состоялись сразу три встречи председателей правительств стран — республик бывшего СССР: заседание высшего органа Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, переговоры в расширенном составе в рамках Межгосударственного совета ЕврАзЭС и заседание Совета глав правительств стран СНГ. Встречи показали как стремление к взаимной интеграции, так и массу проблем на этом пути.
Интеграционный эксперимент
 Самыми важными из всех прошедших переговоров стали, пожалуй, консультации в рамках Таможенного союза (ТС). Это своего рода интеграционный эксперимент на пути создания единого экономического пространства (ЕЭП), за которым внимательно следят другие страны СНГ. Насколько выгодным для его участников окажется данный союз и чем при этом придется пожертвовать?
Самыми важными из всех прошедших переговоров стали, пожалуй, консультации в рамках Таможенного союза (ТС). Это своего рода интеграционный эксперимент на пути создания единого экономического пространства (ЕЭП), за которым внимательно следят другие страны СНГ. Насколько выгодным для его участников окажется данный союз и чем при этом придется пожертвовать?
ТС России, Белоруссии и Казахстана — это единая таможенная территория, в пределах которой во взаимной торговле действует единый таможенный тариф, не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, кроме специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В отличие от зоны свободной торговли, в Таможенном союзе предусмотрена единая таможенно-тарифная и торговая политика в отношении стран, в него не входящих. В связи с этим государствам — участникам союза необходимо унифицировать свои торговые отношения с третьими странами. В настоящее время у России насчитывается около 120 базовых торговых договоров с такими государствами, у Казахстана — 50, у Белоруссии — 40.
Союз формируется поэтапно. Формально механизм его действия запущен с 1 января нынешнего года. И результаты уже налицо. Как заявил премьер-министр Казахстана Карим Масимов, благодаря созданию ТС товарооборот между Казахстаном и Белоруссией за первые три месяца текущего года вырос практически на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это во многом благодаря тому, что возникают новые возможности в рамках Таможенного союза», — подчеркнул он.
На 1 июля намечено начало функционирования единой таможенной территории. В полном объеме Таможенный союз должен заработать с 1 июля 2011 года, спустя пять лет после решения о его создании.
Российское руководство, по всей видимости, делает на союз и формирование единого экономического пространства большую ставку. Мировой опыт показывает, что, успешно пройдя данные этапы, страны-участники приходят к гораздо более тесным формам геополитической интеграции. В динамике это может выглядеть так.
Первый этап: образование зоны свободной торговли — отмена таможенных пошлин в торговле между странами — участниками интеграционной группировки.
Второй этап: образование таможенного союза — унификация таможенных пошлин в отношении третьих стран.
Третий этап: образование общего рынка — либерализация движения ресурсов (капиталов, рабочей силы и т. д.) между странами — участниками интеграционной группировки.
Четвертый этап: образование экономического союза — координация и унификация внутриэкономической политики стран-участников, включая переход к единой валюте.
Пятый этап: образование политического союза — проведение единой внешней политики.
На заседании высшего органа Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана премьер-министр РФ Владимир Путин сказал: «Мы удовлетворены высокими темпами совместной работы по формированию Таможенного союза. Союз перерастает чисто экономический формат и становится новой геополитической реальностью». Далее он отметил, что формируемое единое экономическое пространство является ключевым направлением интеграционных процессов в ЕврАзЭС и СНГ.
С точки зрения необходимых документов для введения в действие Таможенного кодекса с 1 июля этого года 21 мая должен был быть одобрен целый ряд ключевых соглашений, однако этого не произошло. За шесть часов переговоров премьеры трех стран так и не смогли согласовать все позиции формирования Таможенного союза. Для России, как выяснилось, чувствительной зоной оказался прежде всего автопром и авиапром. Есть и другие вопросы меньшей степени значимости. Экспертные группы продолжат работу, и по окончании выработки согласованной позиции премьеры трех стран соберутся еще раз.
После смены власти на Украине в Таможенный союз позвали и ее. Однако согласия со стороны нового руководства страны пока не последовало (ранее президент Виктор Янукович заявил, что членство Украины в ТС возможно только после присоединения России, Белоруссии и Казахстана к ВТО, поскольку ее экспорт в страны — члены ВТО намного больше, чем в страны ТС). Очевидно, украинское правительство готовит для торгов с Россией (как в рамках союза, так и на двусторонней основе) целый ряд вопросов с целью расширения сотрудничества с максимально возможным количеством преференций. В этот же день, 21 мая, министр иностранных дел Украины Константин Грищенко демонстрировал в Верховной раде решимость новой власти ничего России не отдавать — газотранспортную систему (ГТС), Керченский пролив и некогда общую советскую собственность за рубежом — и решать все вопросы только на взаимовыгодной основе. Министр заверил депутатов, что переговоры по ГТС, топливно-энергетической, ядерной (ядерного сотрудничества двух стран), керченской и другим тематикам ведутся, но соглашений ни по одной из них не подписано. Мало того, оказывается, власти страны поднимают вопрос о возвращении российской стороной советских вкладов граждан Украины, а также передаче ей бывшего советского имущества в некоторых зарубежных странах. «В ряде столиц мы заблокировали перерегистрацию собственности с Советского Союза за рубежом на Российскую Федерацию», — приводят слова Грищенко «Подробности».
Так что впадать в эйфорию как по поводу Таможенного союза, так и по поводу «нового формата» отношений с Украиной пока не стоит.
Родом мы из СССР
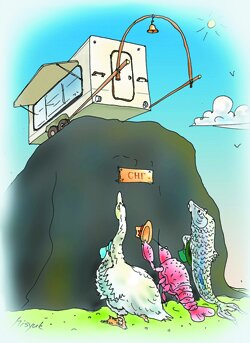 В декабре прошлого года были обнародованы данные социологического опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады об отношении россиян к распаду СССР. Результаты исследования показали, что за годы независимости и суверенного процветания позиция наших соотечественников практически не изменилась. Россияне по-прежнему отрицательно относятся к распаду Советского Союза и считают, что этого можно было избежать. Такого мнения сейчас придерживается 60%, и за последние два года их число не сокращается. Похожая статистика имеет место и в бывших союзных республиках (в некоторых она скрывается или серьезно корректируется по команде властей).
В декабре прошлого года были обнародованы данные социологического опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады об отношении россиян к распаду СССР. Результаты исследования показали, что за годы независимости и суверенного процветания позиция наших соотечественников практически не изменилась. Россияне по-прежнему отрицательно относятся к распаду Советского Союза и считают, что этого можно было избежать. Такого мнения сейчас придерживается 60%, и за последние два года их число не сокращается. Похожая статистика имеет место и в бывших союзных республиках (в некоторых она скрывается или серьезно корректируется по команде властей).
Экономика по сравнению с недавним советским прошлым также в значительной степени деформировалась, а в целом ряде случаев деградировала. Вот что сказал о некогда одной из ведущих в СССР высокотехнологичной экономике Украины 21 августа прошлого года на пресс-конференции в Киеве заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валерий Новицкий: «Уже никто не помнит, что в 80-е годы Украина была одним из мировых технологических лидеров. Сегодня скажи об этом детям — они будут смеяться, потому что все понимают, что Украина — это страна периферии». Новицкий считает, что Украина превратилась в «технологический придаток». «Украинская экономика — это практически руина», — констатировал эксперт.
А ведь вопреки расхожему мнению отделившимся республикам достались практически полноценные, суверенные экономики. С момента создания СССР руководство страны не просто номинально рассматривало республики как составные части единой страны. Оно делало все для выравнивания их экономического развития, уровня занятости и жизни населения. Всесоюзные ударные стройки промышленных, энергетических и добывающих гигантов вплоть до конца 80-х годов ХХ века были для всех республик Советского Союза обыденной реальностью. Именно эти гиганты, разведанные и освоенные месторождения, а также соответствующая инфраструктура (города, дороги, каналы, морские и речные порты, аэропорты) сегодня являются локомотивами роста национально-суверенных экономик.
При этом, несмотря на исключительно тесное хозяйственное взаимодействие союзных республик, особенностью их экономических систем являлся высокий уровень развития национальных воспроизводственных процессов. В каждой республике была своя пищевая, легкая промышленность, высокоразвитая сфера услуг, много дублирующих производств и сельскохозяйственный сектор. Так, к концу 80-х годов доля продукции собственного производства в ресурсах потребления в трех республиках — России, Украине и Казахстане — превышала 80%, а в других была на уровне 70% (Таджикистан — 70,5%, Армения — 71,3% и Молдавия — 72%) или заметно выше (от 73,5% в Киргизии до 78,7% в Азербайджане). Таким образом, несмотря на то, что хозяйственный комплекс СССР представлял собой целостную высокоинтегрированную систему, в каждой из союзных республик осуществлялся собственный воспроизводственный процесс, основанный на использовании имевшегося экономического потенциала и ставший в дальнейшем фундаментом их суверенитета.
Таким образом, во многом именно благодаря существованию СССР и нахождению в его составе нынешних суверенных республик они состоялись как государства. Не надо забывать и том, что после развала Союза Россия вплоть до недавнего времени осуществляла дотирование бывших республик СССР через цены на энергоносители и предоставление больших льготных кредитов (часто безвозвратных по определению). Последним примером может служить помощь Киргизии (страна получила грант в размере 20 млн долларов для социальной поддержки населения и льготный кредит по линии Россельхозбанка в 30 млн долларов). Кроме того, гуманитарная помощь предоставляется в виде нефтепродуктов для проведения весеннего сева, а также зерна. В данный момент рассматривается вопрос об увеличении размера и продлении сроков оказания этой помощи. Даже Грузия, объявляя о выходе из СНГ, осталась в 75 соглашениях — настолько они оказались жизненно важны для страны. К сожалению, о данных фактах в большинстве бывших членов общего государства сегодня вспоминают с неохотой. Напротив, в моде всевозможные претензии и желание получить по максимуму, отдать по минимуму. В противном случае позиция мотивируется «дефицитом интеграционных стимулов».
Вопреки объективной потребности
Во многом благодаря этому, а также не всегда оправданному огульному стремлению на внешние рынки дальнего зарубежья экономическое сотрудничество и товарооборот между Россией и странами СНГ сокращается. Так, за последние 10 лет доля России в экспорте четырех из семи стран СНГ заметно уменьшилась. В Белоруссии треть экспорта сейчас идет в Россию, а 10 лет назад эта доля составляла 50%. Товарооборот Белоруссии с ЕС сравнялся с товарооборотом с Россией. По данным ООН, Молдавия в 2000 году отправляла в Россию 45% экспорта, в 2008 году — 20%. Казахстан — 20% и 9% соответственно. Средневзвешенная доля России в экспорте стран СНГ упала с 42% в 1995 году до 15% в настоящее время, в импорте — соответственно с 48% до 32,5%.
Согласно данным, приведенным в новом докладе Института современного развития (ИНСОР) «Экономические интересы и задачи России в СНГ», доля всех стран СНГ во взаимном товарообороте, включая Россию, упала с 27% в 2004 году до 21%. Для сравнения, в ЕС этот же показатель составляет 65%, а в НАФТА (North American Free Trade Agreement — Североамериканская зона свободной торговли, включающая США, Канаду и Мексику) — 45%. То есть степень экономической интегрированности стала в СНГ в разы меньше по сравнению с другими торгово-экономическими образованиями.
В то же время страны СНГ остро нуждаются в российских инвестициях, российском рынке для своей малоконкурентной (за исключением наиболее дефицитных природных ресурсов) на мировом рынке продукции. А также в восстановлении технологических цепочек в пока еще совместимых промышленных секторах, трудоустройстве значительной части экономически активного населения.
Расширение и углубление сотрудничества с бывшими республиками может принести немало пользы и России. Во-первых, это доступ к минерально-сырьевой базе стран СНГ. Несмотря на то что в России сконцентрировано более 20% мировых запасов природных ресурсов, она имеет острый дефицит марганца, хрома, глинозема, концентратов титана, молибдена, олова, редких металлов, ртути и др., имеющихся там в избытке. В общемировых запасах многих видов стратегического минерального сырья доля СНГ составляет 5—10%, а по отдельным видам (уран, цинк, свинец, др.) превышает 10%.
Во-вторых, это расширение рынка сбыта отечественной продукции. Российский экспорт в страны СНГ более диверсифицирован по сравнению с экспортом в дальнее зарубежье. Согласно данным доклада ИНСОР, в списке партнеров, в торговле с которыми Россия имеет самую высокую степень диверсификации своих экспортных поставок, стоит Украина (195 позиций), Белоруссия (191 позиция), Казахстан (188) и далее с большим отрывом следуют Германия (69), КНР (51), Турция (49), Нидерланды (42), Италия (41), США (39), Польша (36) и Великобритания (32). При этом степень диверсификации в указанные три страны СНГ продолжает расти.
В-третьих, Россия заинтересована в доступе к избыточной дешевой рабочей силе. Так, по данным ФМС, в 2009 году в нашей стране было 13 млн мигрантов, из них 70% — из стран СНГ, 30% — из стран дальнего зарубежья.
Ко всему прочему сейчас Россия нередко вынуждена пускать в ход всю мощь своей дипломатии, чтобы избежать нерациональной конкуренции со странами Содружества в торговле сырьевой продукцией, и реализация совместных проектов в области переработки первичных ресурсов была бы для нее весьма кстати. Для того чтобы понять, насколько серьезно выглядят эти вопросы, достаточно посмотреть на статистику.
В 2008 году на Казахстан и Азербайджан приходилось свыше 5% мирового экспорта нефти, на Туркмению — более 6% продаж природного газа, черных и цветных металлов, на Украину — более 4% глобального экспорта черных металлов, на Казахстан — 4—5% экспорта меди и цинка; в сумме на Белоруссию и Украину приходилось 7—8% мирового экспорта минеральных удобрений; по пшенице поставки из Украины и Казахстана превысили 10% мировых продаж, по хлопку-сырцу доля Узбекистана и Туркмении в мировом экспорте — 14—15%. Казахстан и Узбекистан обеспечивают 25% мировой добычи урана, те же страны и Киргизия — 5% мировой золотодобычи. Ситуация усугубляется тем, что структуры экономик и экспорта стран Содружества в текущем десятилетии сближались, все более утрачивая взаимодополняемость и переходя в положение конкурентов — ослабляя позиции и осложняя отношения друг с другом.
Чужие интересы
Именно в этом, по всей видимости, заинтересованы наши глобальные «партнеры» — ЕС, Китай и США. Возвращения какой-либо далеко идущей интеграции на просторах бывшего СССР не хочет никто из них. Так, ЕС избегает контактов с региональными экономическими объединениями на постсоветском пространстве, предпочитая сотрудничать в двустороннем порядке с отдельными странами Содружества, по сути, консервируя этим их одностороннюю, сырьевую направленность экономик. Не выступая открыто против интеграционных процессов на постсоветском пространстве, ЕС удается с помощью умелой политики манипуляции противодействовать сплочению стран региона. Но, как считают эксперты, в перспективе ситуация может измениться. Возможная причина — сокращение доли ЕС в мировой экономике. По прогнозам ИНСОР, к 2050 году она может упасть до 12%, и тогда ЕС вынужден будет искать более сильных партнеров для конкурентной борьбы с крупными игроками. В этом случае стратегическое партнерство России как лидера СНГ может оказаться полезным Евросоюзу, считают эксперты.
Китай, так же как и ЕС, не заинтересован в усилении интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Он последовательно превращает бывшие советские республики Центральной Азии в источники ресурсов, рынки сбыта своей продукции, транзитный коридор, что приводит к переориентации торговых потоков стран СНГ на Китай и торможению интеграционных процессов в регионе.
США так и вовсе устами своего заместителя министра обороны Александра Вершбоу поспешили заявить: «Мы уже не первый раз говорим, что не приемлем такие понятия, как «сферы привилегированных интересов» и «сферы влияния» в нашем современном мире». «США продолжат поддерживать суверенитет украинского государства, независимость и территориальную целостность, в том числе Крым и Севастополь», — заявил Вершбоу. Отставные американские политики (а ныне видные тамошние аналитики и эксперты) также выразили озабоченность по поводу возможного слияния «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины, создания объединений в авиастроительной, атомной и других отраслях.
Помимо чисто экономических причин у региональной интеграции есть и политические стимулы. Укрепление тесных экономических отношений между разными странами, сращивание национальных экономик гасит возможность их политических конфликтов и позволяет вести единую политику в отношении других стран против общих соперников.
Это как нельзя лучше понимают наши «партнеры» и всяческому, сколько-нибудь значительному расширению и углублению интеграционных экономических, а тем более политэкономических процессов (в виде создания ЕЭП СНГ с последующим перерастанием его в какое-либо более тесное объединение) будут противодействовать всеми имеющимися у них в наличии средствами.
Политико-экономические тенденции
Несмотря на негативные факторы (противодействие дальнезарубежных «партнеров», торг и завышенные требования, часто иждивенческого порядка, со стороны местных элит стран СНГ и пр.), последние годы для многих стали временем прозрения.
Запад, всеми силами стремившийся заполнить вакуум, образовавшийся на постсоветском пространстве с ослаблением влияния России и пытавшийся таким образом, с одной стороны, создать некий демократический буфер вокруг нашей страны, а с другой — данными действиями всячески ослабить РФ, отчасти все же убедился в непродуктивности своих попыток. Режимы, пришедшие к власти в ряде стран СНГ в результате «цветных революций», либо дискредитировали себя (как в лице собственных народов, так и в глазах международного сообщества), либо показали полную несостоятельность (как экономического, так и политического характера), проявив авантюризм, незрелость и некомпетентность. В некоторых странах данные попытки вообще успехом не увенчались. В результате у заокеанских и европейских здравомыслящих политиков и экономистов возник вопрос: а стоит ли ставить на проигравших и продолжать проигрывать в отношениях с Россией? Где выгода, в чем интерес? Последние события показывают, что нечто похожее на трезвые оценки ситуации в западном политэкономическом сообществе набирает силу. Местная пресса в массовом порядке пишет о том, что «Россия возвращается в зону своих интересов при молчаливом попустительстве Запада».
Национальные элиты тоже в большинстве своем убедились в том, что, делая ставку на популизм и громогласную (а в экономическом плане весьма и весьма скромную) поддержку Запада — при конфронтационных, натянутых или просто прохладно-коммерческих отношениях с Россией, создать себе ни материального, ни политического капитала в рассчитываемом виде не удастся.
Ослабление мировой конъюнктуры в условиях кризиса, а также современные политэкономические тренды показали, что Россия по-прежнему остается для бывших советских республик центром притяжения. Она наиболее сильный и близкий во всех отношениях экономически развитый партнер (в совокупном ВВП четырех самых крупных стран СНГ — России, Белоруссии, Казахстана, Украины — на Российскую Федерацию приходится почти 80%, в ВВП стран Евразийского экономического сообщества — почти 90%, в ВВП стран Таможенного союза — 90%).
В свою очередь, и российская сторона в целом заинтересована в сохранении кооперационных связей с партнерами по СНГ, в том числе в машиностроении и оборонных отраслях, а также в сфере торговли сырьевыми ресурсами, потребительскими товарами и услугами. Поэтому вполне логично, что на новом историческом этапе российское руководство предложило странам СНГ интенсифицировать стратегическое партнерство на основе непосредственного учета национальных интересов каждого участника и всех вместе.
Последние события показывают, что логика экономического и политического выживания в разной степени, но все же толкает большинство бывших союзных республик навстречу друг другу. Народы хотят, чтобы интеграция была действенной. Однако самой сложной проблемой для местных элит по-прежнему является болезненное восприятие необходимости делегирования части суверенитета наднациональным структурам. Ведь любые межгосударственные союзы ведут к некоторому допустимому ограничению экономического, а порой и политического суверенитета интегрирующихся стран, поскольку каждая из них должна будет строить свою политику, исходя из интересов не только собственных, но и партнерских. Но в целом ряде стран до понимания этих аксиомных постулатов еще далеко. Игры в парадный суверенитет наряду с иждивенческими аппетитами и периодически рождающимися (часто весьма нелепыми) претензиями еще вполне популярны. В этих условиях нужна демонстрация реальной силы, возможностей и успехов интеграционных процессов, с одной стороны, и жесткого практицизма по отношению к тем, кто ждет от России только уступок и привилегий, — с другой.




Комментарии