Искусство
Жидкое колесо
О семейной саге Сергея Кузнецова «Хоровод воды»
Фашистские каратели жгли Березовку, а девочка ушла гулять в лес и спаслась. Много лет спустя думает, как сгорала ее мама. Надеется, что мама радовалась, когда умирала. Знала, что дочь спаслась.
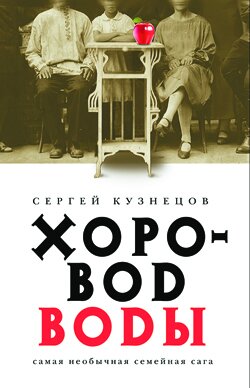 Герб в кораллах
Герб в кораллах
Смертей в романе, действие которого охватывает век, много. Автор часто фиксирует взгляд живого на смерть или даже взгляд из смерти. «Для умершего крышка гроба прозрачна. Сквозь нее видно, как снег летит вниз, как небо раскачивается в такт движениям могильщиков».
Смерть останавливает взгляд; похороны-поминки тормозят нас, позволяют глянуть спокойно, не на бегу, на себя и на мир.
Роман «Хоровод воды», в соответствии со своим крутящимся названием, устроен так, будто мир никогда не тормозит. Должен вроде, хотя бы на скорбных полустанках. Но вот телефонный звонок в первой главке: «Ты знаешь, Саша умер», и герой (его зовут Никита) сразу не понимает, о ком говорит его отец — о своем брате или о брате героя, они оба Саши. И вместо чаемой паузы мы получаем две тропинки и движемся по обеим одновременно.
Родство — тоже повод для паузы, фиксация истории, вспышка фотографа, но и с родством не до конца понятно: то ли герою отцом является звонивший отец, а то ли умерший дядя Саша. Маховик проворачивается.
В центре книжки — примерно сорокалетний мелкий бизнесмен Никита, подробности его мытарств с женой Машей и неженой Дашей. Автор полагает, что в центре истории четырех сводных или двоюродных братьев-сестер (степень родства зависит от решения упомянутой дилеммы отца), но сестре Ане и брату Саше внимания уделено меньше, сестре Римме еще меньше: хоровод все-таки центробежный. Герои множатся, но чем дальше от Никиты и от стартового взгляда из гроба, тем скромнее их эпизоды, быстрее мельтешат фигурки… Скромнее-то при этом скромнее, но книжка огромная (больше шестисот страниц некрупного шрифта) и плотная, места хватает всем, истоки каких-то сегодняшних эпизодов прослежены на столетнюю глубину.
Это не такая «семейная сага», где много временных или там социальных слоев параллельно движутся, это водоворот, в котором история стягивается в пучок… Точка схода перспектив — бизнес Никиты. Родственники полагают, что он «разводит рыбок», а он рыбок закупает на стороне, а сам «разводит» необычные аквариумы. С руинами на дне.
Там не только обломки кораблей, кораллы, копия Колизея и греческие амфоры. Там еще расколотый надвое советский герб, скажем, или развалины четвертого энергоблока, взорванные остатки церквей, подлодка «Курск» уместны в такой коллекции… Мультитематические руины в аквариуме — прямо-таки символ нашей эпохи.
Рококо с кокаином
Кузнецов вообще неравнодушен ко вкусу эпох, любит пошелестеть приметами времени. Семидесятые представлены умилением перед церквушкой на Калининском проспекте, очередями на Тутанхамона, макулатурными книгами, машинописной Цветаевой — и не только этим ностальгическим перечнем, но и тонким анализом речевых практик, «дутыми парадоксами и абсурдными силлогизмами». Например, если обещают послабление, значит, всех посадят. Или: я так сильно тебя люблю, что мы почти не видимся.
Хороша «стругацкая» застольная (День Космонавтики!) фраза, призванная передать дух шестидесятых:
— Все-таки нам повезло, что радионуклиды хорошо выводятся спиртом. Представьте, если бы нам пришлось после каждого запуска пить столько же молока!
Опускаясь в 1913 год, автор несколько перебарщивает. Сразу фестонный камин в завитках рококо, а на нем часы из фарфора… дескать, изучил детали. Но вот послереволюционный разгул новых людей дан очень эффектно: чекист Ян и его молодой любовник (крупным планом даны соития под кокаин) пестуют голубую мечту: хотят расстрелять графиню. Найти, разоблачить и расстрелять настоящую графиню: какие невиданные горизонты открывает эпоха!
Или не столь вычурно, но зорко: в наши годы ходит герой по Москве и замечает в кооперативном кафе эстетику десятилетней давности (пластиковые пальмы, цветные ликеры в баре), гипсовую сталинскую скульптуру в современном дворе, боевые граффити «Борис, ты прав!» под путинскими плакатами…
Кренделя вокруг пупка
Человеческий характер для «саги» не менее важен, чем физиономия эпохи, и автор умеет поставить героя в положение одновременно экстраординарное и понятное миллионам (потенциально саги пишутся для таких аудиторий) читателей.
Прежде всего, конечно, ключевая ситуация: среднего возраста бизнесмен заводит молодую любовницу, думает: «Нелохо получилось, а?» (это понятно, чего касается, и думается один раз), но скоро начинает думать: «Как же так получилось?» (это касается всего и думается часто).
Ситуация, связанная с предыдущей: жена бизнесмена Маша, чахнущая (в прямом анорексическом смысле) дома, когда за Никитой закрывается дверь, она словно отключается, свернувшись в кресле, и тут еще хорошо свет погасить и угнездить кресло с Машей на фоне большого вечереющего окна.
Павел, призрачный человек из прошлого, смотрит в холодную воду и со злобой думает об умершем отце. Отец счастлив был, трое сыновей, дочка. Так и не узнал, что колчаковцы убьют одного сына, большевики — второго, Катеринка с голоду умрет и внуков вовсе не будет. Останется Павел с больной матерью навсегда в родном селе, от матери не уедешь. Злится Павел на отца, как тот ловко умер, плюет в воду.
Андрей (нелепенький дружок, а позже вдруг замечательный муж сестры Ани) убивается в ненужных ей «предварительных ласках», выписывает языком кренделя вокруг пупка, а Аня, ожидая, когда он прескучит галантной пляской, рассеянно думает о планах на лето, о новой начальнице обувного отдела (Аня продавщица), о соседке… Прекрасная сцена.
А вот война, битва за высоту 21,0 глазами молодого бойца, наши разбиты, выжившие бредут в тумане к своим окопам, и вдруг в тумане образовалась прореха и рассказчик видит «во всей нереальной ясности, как Михаил Константинович втыкает нож в спину солдата, идущего перед ним. От неожиданности Борис вскрикнул, но туман приглушал все звуки — и тогда Борис замер, надеясь, что убийца не обернется». Очень точно выписано, графично… убитого не жалко, это был особист.
Впрочем, о том, что особисты энкавэдэшники — тоже люди, а иногда и хорошие (а иногда еще и родственники), тоже довольно подробно говорится в «Хороводе воды». Одному такому жена закатывает истерику как раз на нравственную тему, что ей западло жить с чекистом, и друзья отворачиваются, а тот стоит ошеломленный, бледный, почти голый, отчего возражать неудобно и — вот писательская удача — прикидывает, натянуть брюки от парадного костюма или пойти в дальний шкаф за домашними. Вряд ли дальний шкаф далеко, но случаются такие секунды, слова, метры, граммы, которые сильно «равнее других».
Этим чекистом я ярко себя представил. И ученым-пенсионером тоже, которому по совершенно фантастической оказии довелось пролить сперму, которую он уж и забыл, как проливают… Но в тот вечер не только фантастическая ситуация сложилась, еще и стояло 12 апреля 1961 года, над приближением каковой даты ученый всю жизнь прилежно корпел. Имени пенсионера его случайная партнерша не запомнила, дала дочери отчество Юрьевна, в честь Гагарина.
Да, есть и про космос (это вообще традиция советских семейных саг: если один брат комбайнер, а другой дипломат, то третий точно уж космонавт), и про офис, и про обувной отдел, и про детскую песочницу, и про йогу с тантрой, и про рок-н-ролл, и про советскую армию в Персии, и Рерих, ищущий Шамбалу, упомянут, и женщина-снайпер, и детские фигурки на косогоре — те, что машут платками проходящим поездам — в эпосе быть положено всему.
И обо всем без исключения написано чувственно, уважительно, внимательно, стилистически сдержанно («сценарно»), деликатно и человечно: без акцентированных соплей вроде бы, но салфетка или платок читателю во многих местах помехой не будут.
Придумками пухлилась книга
«Сценарность» помянута неслучайно: не сказать, что роман Кузнецова буквально рвется на экран, но автор явно учитывает при его создании опыт кинематографии. Ритмичное чередование по возможности небольших и самоценных эпизодов. У Кузнецова еще каждый из эпизодов имеет название — несколько кривое, по касательной — «Разумеется, чай» или «Сильная вещь, мы понимаем». Изящно придуманный и хорошо воплощенный «прием».
Их вообще много, «приемов»: в литературе сопротивление материала ниже, чем в том же кино или в скульптуре, возможностей у автора больше, и начитанный-образованный Сергей Кузнецов пользуется и стандартными и новоизобретенными механизмами письма на полную катушку.
Ловко шурует калейдоскопом сюжета, тасуя эпизоды с разными героями в продуманном ритме, иногда дает эпизод с точки зрения персонажа случайного, который больше не появится (скажем, смерть «дяди-папы» Саши описывает приходящая уборщица, получившая ради пары страниц и свои страсти, и свой характер).
Среди размышлений-рассуждений, неизбежно переслаивающих событийную канву, присутствуют разнообразные типы речи: и вариации на банальную тему «Всю жизнь ждешь, пока вырастешь» (они тоже нужны, чтобы читатель натыкался на знакомые мысли), и застольные парадоксы (рассуждения о покупке презервативов мужчинами разных возрастов сами гляньте на стр. 103), и прикладная культурология (хорош пассаж с параллелями между библейским Ноем и дедом Мазаем), и — уже с претензией на некоторую высоколобость — почти эссеистика о «зооалкоголии» (алкогольная тема вообще подана достойно; особо удались рассуждения, можно ли, если нет времени на нормальный, в месяц длиной, запой, а запить необходимо, спрессовать все его стадии в неделю).
Иногда проза вдруг оказывается записанным в строчку стихом (мне понравилось «И в центре желтевшего круга — страницами пухлилась книга»); когда по радио хип-хоп, соответственным ритмом окрашивается абзац; в паре мест включается вдруг орнамент аж под Андрея Белого... но сделано все, повторюсь, деликатно. Интеллектуальные вкрапления (скажем, довольно много реплик про арт-кино) — аккуратными дозами, специями. Грамотно: и умно, и не мешает.
Читателю толстой книжки полезно сообщать иногда что-нибудь из далеких от него сфер — есть тут занятные сведения из жизни рыб. Или когда в японских мультиках аниме девочка любит девочку, это называется юри, а когда мальчик мальчика — яой. Информация бесполезная, но занятная.
У героев — этому тоже опыт кино учит — желательны «пунктики»… Вот Даша во время оргазма кричит каждый раз новое слово, запоминающийся ход.
Или отличный фокус, исполненный автором ближе к концу книги, некий абстрактный следователь задает четверым героям один и тот же вопрос (чего вы боитесь?), они отвечают по кругу, но следователь давит, заставляет отвечать во второй раз, в третий, в четвертый, и всякий раз все выше поднимается из океана айсберг допрашиваемой души… Высокий класс.
Дым костра создает уют
Так что же, спросите вы, перед нами выдающаяся книга?
И психология, и «охват», и мастерство, и деликатность: за все автор статьи хвалит автора саги.
У меня и еще есть комплименты. Автор видит мелочь, умеет обращаться с деталью. Молодой человек говорит девушке, с которой его только что познакомил приятель: «У вас новая прическа». Та поражена, откуда он знает. А просто на воротнике глазастый ухарь углядел черточки свежеостриженных волос (про которые, кстати, в «Хороводе воды» сказано, что 253 штуки составляют целую горсть; думаю, мало для горсти, но лучше не проверять).
В книге много описаний секса, с чем, как принято считать, в отечественной словесности обычно швах. Начиная с того, что подходящей лексики нет. Кузнецовский типа нейтральный выбор лексики («кончать», «орган») мне тоже не по душе, но тут всюду клин, не шибко у нас с цензурными на эту тему словами. Но описано здорово, наглядно, без пошлости и с «психологией»…
И то, что современный автор обращается к философии Рода: это ценно, когда «продвинутая» культура в утверждении прав единицы зашла несколько дальше, чем собиралась...
Пора критиковать. Неубедительны ближе к концу мистические куски, невнятны сквозные видения одного из героев о корягах и мертвецах под водой (тем более не следовало начинать книгу с коряг; многих отпугнет). Длинноты налицо, к финалу многовато пафоса, выраженного однообразными однородными перечислениями.
Но это все чепуха.
Недостаток чего-то важного помешает мне перечесть эту книжку. Прочел я, может, и не взахлеб, но в бодром хорошем ритме, искренне рекомендую, но вот перечитывать — а это и есть знак высшего качества — наверняка не стану.
Я привык, может быть, что литература — это феномен языка. Кузнецов пишет бойко и грамотно, но грамотность — условие лишь первого уровня. Автор слишком уж «стилистически сдержан». Слова он складывает… ну, вернее всего сказать, неинтересно.
«Песня пережила своего автора. До сих пор некрасивые девочки и инфантильные очкарики поют ее на кухнях родительских квартир, на полянах коммерциализированных слетов, в уютном дыме походных костров». Это, конечно, не литература, а журналистика, причем в данной цитате — ужасный ее образец. «Коммерциализированные слеты», фу. Я, конечно, из вредности выбрал особо стыдный фрагмент, но вообще редакционный, пусть и повыше пошибом, говорок — в порядке вещей. Иные куски книги могут существовать в виде эссе или глянцевых колонок: оно неплохо как вставной номер, но скучно как принцип. Собственно, Кузнецов пишет одним языком и детективы, и заметки о фильмах, и сетевые посты: всегда есть мысль и информация, но никогда нет праздника языка.
Оно, может, и стратегия: удобно для переводов (см. досье); логично для насыщенного большого текста, который и так много чем читателя завлекает. Но мне такая стратегия кажется кастрированной, увы.
Тем более есть подозрение, что за стратегией — Идея.
Философическая подоплека «Хоровода воды» не скрывается. Она в том, что в момент, когда умирает твой отец, ты непременно чем-то занят: чистишь зубы, пьешь водку, смотришь черно-белый фильм, снятый так давно, что наверняка мертвы не только главные герои, но и вся группа, вплоть до помощника осветителя. И любое занятие окажется рифмой к смерти отца. В шестнадцатом году пуля попала не в Пашу, а в Сашу, и все, ты рожден на свет через полвека, а иначе бы не был рожден. Все со всем связано. Все есть ковер, в каждом завитке которого содержится общий узор. «Вода, пар, дождь, снег, возгонка, испарение, конденсация, замерзание, вечный водный круг, мельничное колесо, колесо рождений и смертей, похорон и крестин»: один раз нормально. Но там и второй раз, и третий, про смену поколений, про то, что история захлестывает нас, что твой океан.
Вряд ли следует повторять эту нехитрую мысль больше одного раза, да и вообще не стоит ее произносить вслух. Она, допустим, верна как историческая и нравственная установка, но не как предмет проповеди. Не идея это, а общее место. Из таких посылок можно исходить, но ради их утверждения не стоит городить хоровод романа.
Буддистско-психоделическая такая идеология, полезная, возможно, для жизни, но узковатая для литературы. Любой жест и любая судьба доказывает мудрую (или издевательскую) хороводность водоворота. Грустный вояка убивает особиста в спину, и мы его понимаем, знаем мы особистов-то. Другой герой, тот, что без штанов, стал особистом ради жены «из бывших», только изнутри системы мог ее защитить, и это мы, разумеется, понимаем. Но в искусстве неплохо бы чего-нибудь не понимать: героям, читателю и даже автору.
В ожидании чуда
Собственно, роман Сергея Кузнецова — это культура, а не искусство.
Качественная культура. Владение технологиями, хороший вкус плюс добрые чувства.
Такой вывод я позволяю себе несколько в кавычках, в качестве красного словца. Искусства в этой книжке больше, чем в подавляющем большинстве иных, выходящих на свете. Но самим автором предложенный уровень конструкции текста провоцирует на оценки по высокой шкале. И тогда приходится замечать, что в «Хороводе воды» нет и даже не предусмотрено чуда.
Слишком ясно, как он устроен. Как устроены герои. Несостоявшийся художник спивается, муж-изменщик страдает, и так будет всегда, ибо велит хоровод.
То есть не собственно «стиль» или «идеи» непременно нужны, а ощущение, что автор — существо хоть немножко да не от мира сего. В «Хороводе» нет священного безумия, надрыва, а значит, чар и волшебства. «Величия замысла» нет. Это прекрасно сделанная работа, и чем она четче исполнена, тем заметнее, что чудом она не осенена. Может быть, как раз неудавшиеся мистические эпизоды — попытка прикоснуться к области тайны, но слишком уж они кукожливы.
Это, наверное, не претензия и даже не досада: культура в наших краях нужна, может, и больше искусства. Со священным безумием и коликами волшебных судорог в России ни в одну эпоху нет проблем. А вот умений, ремесел, честного расчета, эрудиции, не ушедшей в телевикторины, а приложенной с умом, — этого всегда недостача.
В общем, я буду рад, коли «Хоровод воды» станет бестселлером; если книги способны «учить», то эта научит только хорошему.
А чуда поищу у каких-нибудь других авторов.
Кстати
«Жизнь Арсеньева» и «Защита Лужина», «Созвездие козлотура» и «Тропик Рака», «Голова Гоголя» и «Семейство пасленовых», «Учебник рисования» и «Укус ангела», «Идентификация Борна» и «Час быка», «Предатель ада» и «Ангелы рая», «Сила судьбы» и «Триумф воли», «Власть тьмы» и «Осень патриарха» — у авторов были разные причины выбрать до неприличия расхожую «родительную форму», но в случае Сергея Кузнецова кажется, что главная функция названия «Хоровод воды» — не выбиваться из круговорота известных фильмов и книг.
Досье
Сергей Кузнецов (1966, Москва), журналист, кинокритик, прозаик, один из пионеров русского Интернета. В девяностые годы публиковался в огромном количестве «толстых» газет, глянцевых журналов и сетевых изданий. В начале двухтысячных жил в Америке. Вернувшись в Москву, опубликовал первый роман, а также книгу мемуаров «Ощупывая слона», посвященную истории Рунета. Оставив журналистику, посвятил себя занятиям литературой и развитию собственных бизнес-проектов в Сети.
Автор детективной трилогии «Девяностые: сказка», футурологического романа «Нет» (совместно с Линор Горалик) и романа «Шкурка бабочка». Последний переведен на немецкий и итальянский языки, в Германии имел коммерческий успех.
Роман «Хоровод воды» раскручивается под слоганом «Самая необычная семейная сага».




Комментарии