Экономика
Укусит ли змея свой хвост
Тенденции и прогноз динамики российской экономики
Все со смешанными чувствами ожидают приближающийся конец календарного и финансового года и, соответственно, начало нового. Ожидать ли продолжения кризиса или можно вздохнуть свободно?
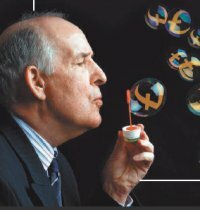 МОДЕЛЬ ПРОСАЧИВАНИЯ
МОДЕЛЬ ПРОСАЧИВАНИЯ
Российская экономика не является однородной, а состоит из двух относительно независимо функционирующих секторов: экспортного и производящего продукцию для внутреннего рынка. Иногда в целях более детального анализа выделяется третий сектор: сектор естественных монополий с государственным регулированием цен. В докризисный период взаимодействие двух секторов осуществлялось по модели «просачивания» — постоянно растущий поток экспортных доходов распространялся на всю экономику.
Просачивание осуществлялось по нескольким каналам: инвестиции и доходы работников экспортных отраслей; инвестиции отраслей естественных монополий (и отчасти доходы их работников); расходы бюджетной системы; рост пассивов и, соответственно, активов банковской системы. При этом в 1999—2002 годах сектор, ориентированный на внутренний рынок, получил первоначальный импульс самостоятельного развития вследствие девальвации рубля. Девальвация позволила также резко повысить рублевые доходы экспортных отраслей и обусловила изначально высокие масштабы просачивания.
После того как выросли масштабы просачивания, в секторе, ориентированном на внутренний рынок, начали образовываться «пузыри», из которых необходимо отметить три: девелопмент, потребительское кредитование и ритейл. С появлением этих пузырей процесс развития получил еще один мощный источник подпитки — иностранные кредиты. Прекращение поступления иностранных кредитов летом прошлого года привело к сжатию финансовых пузырей, а резкое падение цен на товары традиционного экспорта разрушило механизм функционирования модели просачивания. При этом начавшийся некоторое время спустя процесс восстановления экспортных цен не оказал заметного влияния на общее состояние экономики, поскольку традиционные каналы просачивания оказались неработоспособными.
Сократилась инвестиционная активность экспортных отраслей и отраслей естественных монополий. Доходы работников в этих отраслях если и не сократились, то уж, по крайней мере, перестали увеличиваться докризисными темпами. Начавшие расти поступления от экспортных отраслей не смогли компенсировать падение доходов бюджета от сжатия сектора, производящего продукцию на внутренний рынок. За счет использования резервных фондов удалось сохранить расходы бюджетной системы на докризисном уровне, но и только. Банковская система оказалась парализованной вследствие роста «плохих долгов», возникших в ходе сдувания финансовых пузырей. Связь между двумя секторами российской экономики оказалась разорванной. Антикризисные меры правительства не способствовали ее восстановлению. Впрочем, такой задачи и не ставилось: антикризисные меры не носили системного характера и были направлены на поддержание каждого из попавших в кризис секторов по отдельности. ФИНАНСОВЫЕ ИГРЫ Сегодня экспортный сектор следует за спадами и взлетами мировой конъюнктуры, а сектор, производящий продукцию на внутренний рынок, медленно деградирует. Ключевым для дальнейшего развития российской экономики является вопрос о том, как и при каких условиях может восстановиться модель просачивания (ибо никакой другой сегодня в российской экономике нет). Это может произойти в результате возвращения устойчивого спроса на мировых рынках сырья с быстрым повышением цен и/или девальвации рубля.
Восстановление устойчивого спроса на мировых рынках сырья зависит от того, как будет идти развитие кризиса в мировой экономике. В последние месяцы здесь наблюдается любопытная картина. С одной стороны, фондовые рынки растут — не очень уверенно и с довольно сильными колебаниями. Также растут цены на нефть и другие сырьевые товары. Официальные лица и эксперты регулярно заявляют о стабилизации финансового сектора экономики. При этом показатели, характеризующие реальное производство, уровень доходов и расходов населения, а также уровень безработицы, явно не вызывают оптимизма. Конечно, темпы ухудшения существенно замедлились, однако само ухудшение не остановилось, и только масштабные программы государственной поддержки обеспечивают некоторую стабильность.
Прибыли компаний нефинансового сектора, по данным Morgan Stanley, упали во втором квартале на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате цены на акции почти в 20 раз превысили размер прибыли, приходящейся на одну акцию. В марте это соотношение было в два раза ниже. Дисбаланс налицо.
В принципе, ожидания экономических агентов понятны. Для выхода из кризиса необходимо восстановление кредитования реального сектора экономики. Такое восстановление возможно только в том случае, если у компаний реального сектора появятся надежные залоги. Кредитовать под будущий рост спроса в условиях, когда этот спрос повсеместно падает, никто не будет.
Если фондовый и сырьевой рынки на некоторое время стабилизируются, то есть будут расти без сильных колебаний, у компаний реального сектора появятся надежные, с точки зрения финансистов, залоговые активы, под которые им можно будет выдавать кредиты. Такими залогами станут не производственные ак- тивы, а ценные бумаги (акции, облигации). Пойдут кредиты — начнется оживление экономики, начнут расти доходы населения, эти доходы сформируют спрос на продукцию реального сектора, у компаний начнут восстанавливаться прибыли — и рост финансовых рынков получит свое оправдание задним числом. Голова змеи поймает хвост, который она выпустила изо рта осенью 2008 года, и все закрутится по новой.
Это крайне рискованная игра: разрыв между реальным и финансовым секторами пока растет. Приходится тратить значительные объемы бюджетных средств (преимущественно заемных), чтобы не допустить приостановки производства. При этом добиться устойчивого роста финансовых рынков пока не получается: колебания часты и размах их достаточно велик.
Есть риск, что увеличивающийся разрыв между состоянием финансовых рынков и состоянием реального сектора в один далеко не прекрасный момент отпугнет инвесторов, и тогда с надеждой на выход из кризиса, хотя бы начиная со второй половины 2010 года, придется расстаться. Змея не сможет поймать свой хвост.
.jpg) ОКТЯБРЬ — КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА
ОКТЯБРЬ — КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА
Российские власти, очевидно, внимательно следят за ситуацией в мировой экономике. Последние оптимистичные заявления ряда ответственных чиновников органично влились в хор аналогичных заявлений официальных лиц других стран, что наводит на мысль о скоординированной кампании, целью которой является оказание психологической поддержки финансовым рынкам. Внимание российских властей понятно: им надо решить вопрос о том, проводить или не проводить девальвацию рубля. Если описанный нами оптимистичный сценарий развития мировой экономики реализуется, то проводить девальвацию не надо. По их расчетам, резервов на поддержание ситуации хватит до середины будущего года, а дальше на волне оживления мировой экономики и восстановления спроса можно будет занять денег до того момента, когда начнет восстанавливаться и российская экономика. В расчете на займы проводить девальвацию тоже не следует — денег могут не дать или дать на слишком обременительных условиях. Если же мировая экономика не заработает, то проводить девальвацию необходимо: денег могут и не дать, и тогда надо будет растянуть резервные фонды на как можно более длительный период времени (плюс обеспечить рост рублевых поступлений в бюджет от экспортеров). При этом тянуть с девальвацией нельзя: резервные фонды тают с каждым месяцем, и с ними тает потенциальный бюджетный эффект девальвации.
По нашей оценке, критической точкой принятия решения о девальвации для российских экономических властей будет октябрь (в крайнем случае — ноябрь) нынешнего года. Если в этот период девальвация не будет проведена, то решение о ее проведении не будет принято уже никогда. Правда, в этом случае девальвация может произойти сама собой — вследствие резкого ухудшения мировой экономической конъюнктуры.
Однако в этом, последнем, случае девальвация может оказаться бесполезной с точки зрения восстановления модели просачивания. В 1998 году девальвация совпала с началом роста цен на мировых сырьевых рынках, кроме того, сектор, производящий продукцию на внутренний рынок, сумел в полной мере реализовать эффект импортозамещения. В описанном нами случае оба этих важных фактора будут отсутствовать. В частности, девальвация наложится не на рост сырьевых рынков, а на спад.
Октябрь — ноябрь — это последний шанс провести девальвацию с положительным эффектом для восстановления механизма просачивания и обеспечения относительно независимого от мировой конъюнктуры функционирования российской экономики. Причем вероятность успешного исхода невелика: слишком много времени оказалось потеряно, слишком большие потери понес сектор, производящий продукцию для внутреннего потребления.
Тем не менее, если Россия этот шанс не использует, ей останется только уповать на то, что мировая экономика начнет свое восстановление в приемлемые сроки. Но тогда российская экономика выйдет из кризиса как чистый сырьевой придаток мировой экономики.
ВВП: СМЕНЫ ТРЕНДА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
По официальным данным Министерства экономического развития РФ (МЭР), абсолютное значение номинального ВВП в текущих ценах за январь — июль составило 21,38 трлн рублей. Падение ВВП за 7 месяцев 2009 года по отношению к аналогичному периоду 2008 года составило 10,2% (в июне — июле произошло замедление темпов падения).
 Агрегированный стоимостной показатель ВВП в текущих ценах, по нашим оценкам, сократился за первые шесть месяцев 2009 года почти на 23% по сравнению с объемом номинального ВВП во второй половине 2008 года (график 2).
Агрегированный стоимостной показатель ВВП в текущих ценах, по нашим оценкам, сократился за первые шесть месяцев 2009 года почти на 23% по сравнению с объемом номинального ВВП во второй половине 2008 года (график 2).
Столь резкое падение объясняется тем, что на традиционный сезонный спад экономической активности наложился спад, связанный с кризисом. Однако спад этот затронул и конец 2008 года, нетипичным образом снизив темпы прироста объемов номинального ВВП второй половины года.
Таким образом, влияние кризиса существенно исказило сложившиеся за предыдущие годы сезонные тенденции. В этой связи стоит заметить, что кризис выявил неспособность большого количества аналитиков и экспертов (в том числе и специалистов официальных государственных учреждений) сколь-нибудь адекватно прогнозировать изменения в экономике. Это связано с тем, что применяемые ими стандартные модели анализа рассчитаны на стабильное развитие ситуации и теряют свою актуальность в моменты слома всех известных тенденций и трендов.
При этом поквартальная динамика агрегированного стоимостного показателя ВВП с поправкой на инфляцию (CPI) свидетельствует о положительной динамике показателя во втором квартале 2009 года относительно первого. Причиной является традиционно более низкая экономическая активность в первом квартале (график 3).
ВВП, измеренный в ценах первого квартала 2003 года (цены приведены к базисному периоду по потребительской инфляции), также продемонстрировал отскок во втором квартале 2009 года (график 4).
Ежемесячная динамика свидетельствует об ускорении темпов спада во втором квартале 2009 года по отношению к аналогичным периодам 2008 года в сравнении с первым кварталом. Также на графике 5 видно, что агрегированный стоимостной показатель ВВП в июне продемонстрировал замедление темпов спада по сравнению с маем (21,53% против 22,38%). В июле замедление спада продолжилось.
Основной причиной стабилизации экономических показателей России в середине года являются антикризисные вливания средств Резервного фонда в бюджетную систему при фактической «заморозке» всей экономики (график 6).
По данным Минфина, за семь месяцев 2009 года дефицит федерального бюджета составил 923,82 млрд рублей, что сопоставимо с 4,3% ВВП. По состоянию на 1 августа 2009 года совокупный объем средств Резервного фонда составил 2811,34 млрд рублей, Фонда национального благосостояния — 2858,70 млрд рублей. Минфин России по итогам первых семи месяцев выделил на обеспечение сбалансированности федерального бюджета РФ и на антикризисные меры средства Резервного фонда в общей сумме 1615 млрд рублей, только за июль — 179 млрд рублей.
Фактически за счет этих средств осуществляется временная поддержка экономики. Жизнедеятельность российской экономики обеспечивается искусственно. Если аппарат поддержки («искусственного дыхания») отключить, то мы увидим, насколько этот «организм» жизнеспособен. То есть для объективной оценки экономической ситуации необходимо исключить из расчетов фактор роста бюджетного «пузыря».
Для исключения средств Резервного фонда из расчетов показателя ВВП есть две причины: 1) эти поступления носят временный характер: антикризисные меры правительства направлены на поддержку социальной стабильности и неэффективных производителей. То есть меры не оказывают никакого стимулирующего воздействия на развитие экономики и рассчитаны на скорое окончание кризиса; 2) с точки зрения методологии статистического и экономического анализа направление средств Резервного фонда в экономику создает проблему «двойного счета» (эти средства уже однажды были учтены в ВВП как доходы от экспорта нефти и газа). Фактически это эмиссия рубля, повышающая инфляционные риски в будущем.
Как видно на графике 7, никакого «отскока» (широко разрекламированного рядом экспертов и аналитиков) не наблюдается. Формальная стабилизация — заслуга ранее накопленных резервов, пущенных на покрытие дефицита бюджета.
Данный парадокс находит свое отражение не только при расчете стоимостного объема ВВП, но и при расчете его физического объема (график 8).
Справедливости ради стоит отметить, что в июле действительно зафиксировано замедление темпов спада, однако говорить о переломе тренда пока не приходится. То есть экономические показатели, несмотря на периодические «всплески» (которые зачастую принимаются за восстановление экономики), продолжают демонстрировать депрессивную динамику.
 НАДЕЖДА НА «МИРОВОЕ ЧУДО»
НАДЕЖДА НА «МИРОВОЕ ЧУДО»
Возможны различные сценарии того, насколько в дальнейшем вырастет или упадет объем производимой в экономике добавленной стоимости.
Официальный прогноз МЭР до конца 2009 года, в очередной раз скорректированный в середине июля, предполагает падение ВВП России на 8,5—8,6% по сравнению с показателями 2008 года. По итогам года правительственные эксперты ожидают увеличения номинального объема ВВП до 40,42 трлн рублей (график 9). В 2010 году МЭР ожидает роста экономики на 1%, или до 44,5 трлн рублей.
Выше мы уже писали о том, что из-за слома сезонных тенденций в 2009 году прогнозные модели МЭР и большинства аналитиков стали выдавать искаженные прогнозы. Дополнительные сложности создаются за счет того, что эти модели во многом не учитывают уникальные для текущего кризиса риски.
Модельный прогноз МЭР исходит из того, что во второй половине 2009 года произойдет восстановление привычного течения экономических процессов вплоть до восстановления сезонных тенденций. Из этого предположения следует, что в текущих ценах номинальный объем ВВП второй половины 2009 года вырастет на 23,9% относительно показателя первого полугодия. Исходя из гипотезы о том, что в 2009 году в экономике сохранится средний (за последние годы) сезонный рост во втором полугодии относительно первого, прогнозистам остается лишь умножить значение номинального ВВП первого полугодия на указанное значение прироста, чтобы получить значение номинального ВВП к концу года. При умножении на простую среднюю мы получили значение ВВП за 2009 год — 38,95 трлн рублей (17,39 трлн рублей за первые шесть месяцев и 21,56 трлн рублей во втором полугодии).То есть даже при условии восстановления стандартных сезонных тенденций все равно получается мало. Мало для того, чтобы официальный прогноз (40,42 трлн рублей) сбылся. Чтобы получить прогнозируемое МЭР значение ВВП на уровне 40,42 трлн рублей, национальную валюту необходимо девальвировать на 10% к концу 2009 года. Причем девальвация может быть плавной, чтобы избежать скачков инфляции. О возможности такого сценария развития ситуации на валютном рынке не раз говорили и представители Минфина, и представители ЦБ.
Фактически МЭР при прогнозировании экономики до конца года, говоря об оживлении во втором полугодии, использует старый статистический трюк в угоду политическим целям. Трюк заключается в том, что сезонный рост, дополненный пресловутым «эффектом базы» (когда предыдущий период уже демонстрировал спад показателей) начинает трактоваться как «отскок» экономики.
Однако существенный спад экономики в конце 2008-го — начале 2009 года нарушил существовавшие до кризиса хозяйственные связи. Восстановление нарушенной структуры требует времени, и для него необходим рост реальной экономики, а не номинальных показателей. Как было отмечено в анализе итогов первого полугодия, спад в реальной экономике продолжается, поэтому говорить о восстановлении докризисной структуры экономики пока преждевременно. Более того, по итогам «оптимистичного» июля становится ясно, что экономика уже меняет свою структуру: в промышленности на июль пришелся рост отраслей обрабатывающей промышленности, которые работают на удовлетворение текущего спроса. В то же время наблюдалось углубление спада в отраслях, производящих продукцию стратегического назначения (станкостроение, машиностроение и т.п.), необходимую для будущей модернизации экономики.
 О том, что старые модели прогнозирования сегодня продолжают выдавать искаженные данные, говорит и тот факт, что большинство прогнозистов (и МЭР тут не исключение) ежемесячно пересматривают — естественно, в сторону ухудшения — свои прогнозы (график 10). Это относится и к аналитическим службам крупнейших банков, инвестиционных компаний и международных организаций.
О том, что старые модели прогнозирования сегодня продолжают выдавать искаженные данные, говорит и тот факт, что большинство прогнозистов (и МЭР тут не исключение) ежемесячно пересматривают — естественно, в сторону ухудшения — свои прогнозы (график 10). Это относится и к аналитическим службам крупнейших банков, инвестиционных компаний и международных организаций.
Данный факт лишь усилил значение фактора неопределенности и лишил бизнес сколь-нибудь четких ориентиров для формирования стратегии и тактики развития. Дополнительную сумятицу вносит отсутствие единой позиции относительно прогнозных показателей в правительстве. Показатели падения реальной экономики в первой половине 2009 года пока укладываются в прогноз, данный специалистами компании «Неокон» в начале года. По нашему прогнозу, в 2009 году ВВП России сократится на 25% (в физическом выражении), предварительно опустившись ниже отметки в 30% и «отскочив» до уровня в 75% от показателей 2008 года. Так, за январь — июнь 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, по нашим оценкам, произошло сокращение физического объема ВВП на 15,33%. В стоимостном выражении мы прогнозировали сокращение экономики на 40%. За семь месяцев спад данного показателя по отношению к показателю за аналогичный период 2008 года составил 25,3%. Во втором полугодии мы ожидаем существенного ускорения спада физического объема ВВП (в IV квартале), однако, с точки зрения статистических показателей, отследить этот спад будет несколько проблематично. Дело в том, что IV квартал 2008 года уже характеризовался спадом экономической активности, поэтому возможно, что реальный спад будет нивелирован в агрегированных стоимостных показателях (например, ВВП) за счет эффекта «низкой базы». Именно поэтому критически важно оценивать экономику не по относительным показателям, а по абсолютным, то есть в физическом выражении. Стоимостные показатели в кризис «плывут», поскольку со временем в денежной системе накапливаются искажения, перерастающие в валютные дисбалансы: накопленная инфляция, девальвация и т.п.
В 2010 году ситуация будет развиваться в зависимости от мер, на которые пойдут власти в области экономической политики. Если сохранится нынешняя установка на удержание формальных показателей, то в 2010 году мы ожидаем продолжения спада реальной экономики, то есть это фактически сценарий депрессии. Если же до конца 2009 года власти пойдут на решительные меры, такие как глубокая девальвация рубля, то в 2010 году мы ожидаем роста реальной российской экономики до 5% в годовом выражении.
Вероятность второго варианта мы оцениваем как очень низкую. Поэтому дальнейшая экономическая политика в РФ, скорее всего, будет иметь строго поддерживающий характер. Будем ждать «мирового финансового чуда».




Комментарии