Искусство
Жизнь других
О романе Михаила Елизарова «Мультики» и о судьбах концептуализма
К вам подскакивает на улице молодая женщина, распахивает шубу, а под шубой у нее ничего нет, кроме самой женщины. Пока вы ошарашенно отводите либо, напротив, фокусируете взгляд, рядом возникают ее подельники: «Мультики видел? Плати». На Невском проспекте или на Тверской вы отправите наглецов подальше, но они ведь и не подкатят к вам на Тверской. Все происходит на темных улицах провинциального промышленного центра, там нравы иные.
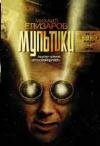 Раскаленный палец
Раскаленный палец
«И это не грабеж, ведь мужик видит сиськи и получает интересное впечатление».
Герман, герой-рассказчик, получил и произвел множество таких интересных впечатлений, переехав в подростковом возрасте из тихого Краснославска в крупный город (см. досье: этот сюжетный зачин соответствует узору из биографии Елизарова). В провинциальном Краснославске были бабушка, озеро, ночные костры, друзья; в большом городе герой сразу угодил в спальный район, дома в котором напоминали «воткнутые в землю надгробья, одинаковые, как на братских могилах». Описан этот мир рельефно, выпукло и со знанием дела. Скупой, но энергичный слог, плотные ясные образы («глубокий, точно его оставил раскаленный палец, шрам на лбу» у одного героя, другого в драке «словно разрывало на тысячу кулачных движений»). Графичность пейзажа («Железные бока гаражей и бетонные плиты забора покрывали похабные надписи, буквы были широкими и лохматыми, точно их рисовали тряпкой или шваброй. Повсюду стоял удушливо-сладковатый запах жженой резины и мазута, словно умер неодушевленный предмет, какой-нибудь гигантский механизм с дизельным сердцем») и правда гопницкого быта, в который с первых страниц погружается герой.
На родине он был мальчиком добрым, но очень кстати в самое последнее лето как следует окреп, стал чемпионом на турнике и, отражая первую же атаку на новом месте, вдруг выяснил, что умеет драться (так, наверное, Елизаров когда-то вдруг узнал, что умеет писать: гуманитарный опыт тоже умеет накапливаться).
Хорошо и даже страшно передана атмосфера, особо убедительны описания развлечений, за которыми коротают вечность Герман и его новые друзья. Можно, например, плавить на зажигалке пластмассовую расческу: горячие ошметки стекают в снег, образуют пятна. С городской елки можно снять надувной шар и пинать его до самого конца аллеи: прикольно! Коллекция ножичков заменяет библиотеку, а шутки про блевотину и унитаз я лишь упомяну, цитировать не стану. Еще такая остроумная есть шутка: трясти стол так, что падают бутылки, и кричать, что это Спитак, землетрясение в Армении (действие происходит в конце восьмидесятых). Художественная самодеятельность тоже представлена — пародиями на шедевры масскульта: «Ап! И тигры Боярского съеди! Ап! И струны из жопы торчат!».
Ну и, конечно, хеппенинг с мультиками, сиськи под шубой, апофеоз креатива. Придумал не сам Герман, но принимает активное участие в выколачивании денег из наблюдателя. Текст поначалу производит впечатление качественного «физиологического очерка», то есть и не очерка, в котором просто фотографируются нравы, а романа: энергично и интересно стартует история, забранная в этнографическую декорацию. Но искушенный читатель знает Елизарова как «постконцептуалиста», автора, разрабатывающего пусть и по собственному разумению, но старые «владимирсорокинские» шахты… Такой читатель понимает, что «обыкновенная история» продлится недолго. Сейчас что-нибудь грянет: или книжка «Малая земля» зависнет над городом, как летающая тарелка, или герои решат съесть женщину-губернатора…
Внутренние органы
…И вот после очередного сеанса мультиков Герман попадает в детскую комнату милиции, в которой есть потайная дверь, ведущая в прошлое этой самой детской комнаты милиции. Там хромой человек по фамилии Разумовский показывает Герману старый диафильм, повествующий о том, как давным-давно попал в эту же комнату сам Разумовский: за то, что после войны приводил на разбомбленный фашистами завод малышей и вырезал из них внутренние органы. Картинка сопровождается текстом, стилизованным под советскую детскую словесность («Огарок в зенитном патроне — чем не подсвечник! Все-таки бедовый мальчишка этот Алешка!»), и в соответствии с традициями этой словесности появляется мужчина в военной форме, «Знак Почета» на лацкане. Он спасает начинающего садиста Алешку, наставляет его на верный путь.
Выясняется, что и мужчина в ордене ранее был башибузуком, следует диафильм про него — и у этого спасителя окажется еще более ранний спаситель, тоже в прошлом башибузук, которого, в свою очередь, спас от падения еще один пламенный педагог — и так далее. Потом время выворачивается Мебиусом, и Герману показывают уже его собственную историю, он видит нарисованным себя сегодняшнего, но слова, которые говорит Герман в мульт-фильме, не те, что он говорил в комнате милиции два часа назад. Диафильм на глазах перевирает жизнь, но выпутаться из текста сложно, тем более что при таком режиме просмотра скоро забываешь, что именно ты говорил в точности: в общем, вариация на тему бабочки, которая не знает, сама ли она приснилась китайскому философу или это ей приписали будущие исследователи.
Разворачивается этот рассказ о диафильме весьма мастеровито и, я бы сказал, терпеливо: все ждешь, когда автор устанет тщательно выписывать подробности, кои можно и пропустить, замается злоупотреблять канцеляризмами. Пером Елизаров владеет, «бить умеет», но читать все равно скоро становится скучно. Фигур Мебиуса, обманок в обманке, постмодернизм породил бездны, и дело даже не в том, что Елизаров их «повторяет», а в том, что всякому овощу свой срок. Илья Кабаков развешивал по стенкам инсталляции текстовые объекты не более осмысленные, чем статьи из газет, украшающие комнаты детской комнаты у Елизарова, но в искусстве смысл существует не сам по себе: соц-артовский кунштюк, произведенный тридцать лет назад, эманирует, ибо совпал со своим временем, а если сделать ровно такой же кунштюк сегодня — нет, не эманирует. В результате книжка, начавшаяся очень даже за здравие — не в смысле фактуры, но качества письма — очень быстро и вполне сознательно сведена к «упокою» — во всех смыслах.
Тот факт, что умный, талантливый и «состоявшийся» писатель некритично воспроизводит десятками страниц кряду погасшую эстетику, лично меня удивляет сильно. Елизаров стилизует советскую речь здорово, но Сорокин-то, прямой предшественник, порой достигал в этом деле интонаций без преувеличения вагнерианских, соревноваться тут бесполезно. Или Елизаров испытывает перед концептуалистским космосом тот же самый безотчетный восторг, какой его литературные предки испытывали перед соцреализмом? Перед нами просто служение, мистическое взаимодействие с чужой-родной цивилизацией.
Корпоративная гусеница
Роман «Мультики» — текст слабый, написанный, возможно, на волне букеровского успеха с внутренним лозунгом «Писатель должен давать книгу в год». Но пассионарий Елизаров сочинит еще много, надеюсь, что разного и хорошего, так что о его локальном провале особо можно не печалиться.
Интересны, однако, «судьбы концептуализма». Явление состоялось и творчески, и институционально (первый наш теоретик Борис Гройс ныне один из главных мировых деятелей современного искусства, авторитет Кабакова в той же отрасли незыблем), в каких-то образцах стало едва не масскультом (Сорокина не только изучают на конференциях аспиранты с профессорами, но и обильно читают простые люди, не подозревающие, что «Норма» и «Роман» — это не только прикольные истории, но и металитературные высказывания). При этом понятно, что новых значений концептуализм уже не производит, роль он свою сыграл, стал музейным феноменом (замечу, на фоне длинной истории он «омузеен» практически мгновенно). В такой ситуации могут возникать проблемы «позиционирования» у живых классиков, но, скажем, Сорокин справляется: не порождая уже новых типов письма, он производит достойные высказывания, убедительно чморя, скажем, в «Дне опричника» представителей заглавной профессии.
Главное, что произошло с мировым концептуализмом, — он оказался успешно апроприирован массовой культурой. Это естественно для любых эстетических открытий (появляясь как экспериментальный эксклюзив, они со временем становятся общим достоянием), но поскольку концептуализм и сам захватывал масскульт (на Западе он работал с культурой потребления, в нашем изводе — с соцреализмом), для него такая операция естественна вдвойне. Тонкие эфирные ходы Леонида Парфенова происходили от Д. А. Пригова и Комара с Меламидом; почти одновременно концептуалистская эстетика в более грубых формах перемалывалась «старыми песнями о главном». В осадок выпадает чудовищная гусеница, в которую в ходе обеспечения победы партии «ЕР» на парламентских выборах активисты движения «Н» выстроились на Красной площади. Дефилировали, плотно прижавшись друг к другу сзади и неприкрыто цитируя сцену из Сорокина, где опричники пользовали друг друга по кругу в корпоративной сауне. Некоторые случаи опрокидывания искусства в жизнь способны порадовать даже самого опытного наблюдателя: правда, отчего-то не радовало, а тошнило.
Разумеется, нет никакой вины и заслуги концептуалистов в консервации и дальнейшей расконсервации советской эстетики: слишком мало прошло времени, никуда сия эстетика не девалась, лишь прикорнула, а как дали знак, споро выпорхнула из ларца. А к жанру хеппенинга и перформанса ныне призывает обратиться своих активистов даже православный патриарх. Так что все совпадения на совести плотного времени: всякий пользуется Интернетом, хеппенингом, скоростными поездами и прочими актуальными технологиями.
Козлиные плевела
Концептуализм может и отдал слишком много дани советской эстетике, слишком надоел пародиями на нее, однако эти пародии — частный эффект более широкой задачи — взаимодействия с иными языками. Даже в густопсовом соцреализме есть с чем взаимодействовать по-человечески. Лев Рубинштейн, известный уже тридцать лет своими пачками библиографических карточек, на которых в убедительном поэтическом ритме начертаны фразы, долетевшие до поэта из разных сфер жизни (из чужих стихов, из уличных разговоров), поет в последние годы советские песни. Выходит с аккомпаниатором на сцену и задушевным (вот слово, которое трудно, но можно ведь произнести неиронично) голосом выводит «Ночь коротка, спят облака», и благодарный зал подпевает, а кто-то начинает кружиться в танце, если позволяет пространство.
Перед пением Рубинштейн (1948 г. р.) поясняет аудитории, что прекрасно осведомлен о значении слова «Сталин» и о прочих прелестях времени, породившего это искусство, но исполняет их как песни, которые тянули на своих застольях родители, которые неслись из радиоточек в детстве. То есть передает не суть и смысл эпохи, а запах детства и теплоту старых эмоций. Возможно, что в такой операции отделения плевел от козлищ и сгодился концептуалистский опыт, но «рефлексия на самое себя», характерная для постмодерн-высказывания, здесь вся за текстом, дело совершенно не в ней.
Пару месяцев назад Лев Семенович впервые выступил с песенной программой в Петербурге, и занятно, что в последовавших рецензиях на концерт раз за разом поднималась тема, что нев-ской публике показали очередной хитровымудренный извод московского концептуализма. При этом рецензент-почвенник ловко углядел в концерте стеб, издевательство над советской эстетикой (хотя в какой-нибудь из стран-лимитрофов исполнителю могли бы скорее пришить статью за ее пропаганду), а рецензент-интеллектуал показывал, как ловко гастролер поднимается над «дискурсами»… Но в основе одно — поиск подвоха. У концептуалиста обязан быть подвох.
Вот и Елизаров кажется писателем, который ищет подвох даже в своем сочинении. Я писатель? писатель! произвожу письмо? письмо, что же еще! а письмо, если оно по Дерриде, непременно должно выявить свою тотальную природу и перейти в несемантизированный бредорегистр… как-то так.
Черные квадраты
Подвох, возможно, ищется потому, что для концептуализма важна идея секты. И не только в том дело, что сорокинские герои то и дело собираются в закрытые общества, чтобы расчленить, сварить и скушать неосторожного секретаря райкома. И Сорокин, и Пригов, и Рубинштейн — все они участвовали в семидесятые-восьмидесятые в акциях вдохновляемой Андреем Монастырским группы «Коллективные действия», которая выезжала по выходным в лес — зарыть под снегом четыре будильника, заведенные на через десять минут, запустить по речке воздушный шар, фаршированный макетами ветряных мельниц, вывесить на березе швабру и противогаз. Смысл «КД» состоял в несемантизированном, но активном общении с Природой, в которой наверняка ведь скрыт глобальный подвох, потому лучше находиться с ней в режиме магического взаимодействия.
Вершина магической деятельности мировых концептуалистов — обильно расставленные по планете Музеи современного искусства, эти Храмы Странных Вещей, набитые татуированными камнями, тикающими стенами и закрашенными зеркалами. Можно представить себе роман Михаила Елизарова, посвященный такому Храму: там непременно бы собирались ночами Избранные, кушали бы селезенки молдавских, мавританских, милицейских (все на «м», короче) младенцев, а потом мочились бы зеленой мочой в ожидании благодати.
И впрямь: символы концептуалистской религии вроде откровенны: черный квадрат с писсуаром, люди, отрезающие себе органы, гадящие на статуи, вбивающие себе гвозди в руки… Однако посетитель контемпорери-музеев знает, что в среднем случае он оказывается в уютном пространстве, где все страшилки теряют свою черную энергию (она рассасывается в праздничном балаганном контексте), где искусство смеется само над собой и учит зрителя быть самоироничным, где, наконец, замечательно чувствуют себя дети.
Дело то есть в личном, как обычно, выборе. Концептуализму можно «наследовать» по-разному: выбирать в нем энергию интереса к другому, к малым вещам, а не иконоборческий антураж, скажем. Через черный квадрат не обязательно улетать в десемантизированный космос. Можно, напротив, резать на нем колбасу.
Чужое число
Вот Шева, один из гопников (самых умелых гопников!) у Елизарова не понимает арифметических правил. Чтобы решить задание, он рисует ряд палочек, зачеркивает вычитаемое число и вновь пересчитывает палочки. У Шевы глухонемая мать, он из многодетной семьи…
Не знаю ничего о братьях и сестрах Сережи К., с которым я учился в 1972—1973 году в первом классе. Маму его я помню, ее грустную спину: она с Сережей возвращается чуть впереди меня и моей мамы с последнего классно-го собрания в году. У меня в руке грамота хорошиста, а Сережу не перевели во второй класс, его отправили в специальную школу, как недостаточно развитого ребенка. Это наверняка было известно заранее, даже и непонятно, зачем мама с Сережей поперлись на собрание более успешных детей, вряд ли им там было радостно.
А четвертью, что ли, ранее я нехорошо пошутил над Сережей на арифметике: он не понимал, что в окошко между семеркой и девяткой нужно вставить восьмерку, и я подсказал «восемнадцать», Сережа послушно повторил и был публично осмеян. А моя вина никуда не делась, плавает где-то в ноосфере, зачтена.
Полная немудреных, но настоящих страстей жизнь, которую предъявил Елизаров в первой части «Мультиков», заставила меня вспомнить этот эпизод… ткнула носом в реальность. А лабуда про диафильмы в потайной комнате ни к единой реальности отношения не имеет. Так, упражнение в прописях из хрестоматии.
Я вовсе не хочу при этом сказать, что документ выше вымысла, а сапоги выше Шекспира. Не упрекаю концептуализм в бездушии, не отрекаюсь от постмодернизма, не утверждаю, что дерридианское письмо совсем уж обесценено. Но оно действительно несколько не совпадает со временем… эпоха из-под него утекла, как палуба из-под ног левитирующего матроса.
Известный эффект вчерашней моды: когда она станет позавчерашней, то вновь может оказаться стильной. А сегодня она — вчерашняя, со всеми вытекающими.
Кроме того, у всякого творца есть своя органика, и, проверяя ее в ревнивом контакте с чужой (в нашем случае с художественным космосом предшественников), творец не всегда побеждает.
Нос от Ивана Никифоровича, короче, не всякому Акакию Акакиевичу и не всякий раз подойдет.
Досье
 Михаил Елизаров (1973, Ивано-Франковск). Окончил филологический факультет университета в Харькове и музыкальную школу по классу оперного вокала. На Украине писал стихи. С 2001 года по 2003-й жил в Ганновере, где учился в киношколе на телережиссера. С 2003-го по 2007-й жил и работал в Берлине. В настоящее время живет в Москве. Автор сборников рассказов и повестей, романов Pasternak и «Библиотекарь» (за последний из них получил в 2008 году премию «Русский букер»).
Михаил Елизаров (1973, Ивано-Франковск). Окончил филологический факультет университета в Харькове и музыкальную школу по классу оперного вокала. На Украине писал стихи. С 2001 года по 2003-й жил в Ганновере, где учился в киношколе на телережиссера. С 2003-го по 2007-й жил и работал в Берлине. В настоящее время живет в Москве. Автор сборников рассказов и повестей, романов Pasternak и «Библиотекарь» (за последний из них получил в 2008 году премию «Русский букер»).




Комментарии